 |
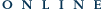 |
|
N°239, 27 декабря 2002 |
 |
ИД "Время" |
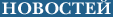 |
 |
 |
 |
Горечь, и жалость, и гнев
О новой книге Тимура Кибирова
О том, что поэтом быть неприлично, мы узнали лет десять-пятнадцать назад. То есть слухи о том клубились и прежде, но как-то вяло. С одной стороны, цензура им не благоприятствовала: мол, стыдно за стихи должно быть только трутням и тунеядцам (вроде Бродского), а Егору Исаеву есть от чего преисполняться законной гордостью. (Да и классиков, всяких там пушкиных-плюшкиных-евтюшкиных мы врагу не отдадим.) С другой же стороны, на интеллигентских кухнях еще высоко котировались слова о «ворованном воздухе». Правда, в наиболее продвинутых кругах считалось, что Мандельштам уже воздух «украл», «выпрямительный вздох» сделал и на том поэзия кончилась -- один «советский писатель» остался. Пошучивали даже, что Тютчев стишки нарочно терял, Лермонтов ставил мундир и шашку выше виршей, Рембо своевременно подался в работорговлю, а Бродский сам признается: нечего, дескать, сказать ни греку, ни варягу, бумагу перевожу по инерции. Да, велись такие разговорчики под сурдинку и водочку (когда их не было?), но музыки они все же не делали. Гром грянул накануне новых времен -- примерно в ту пору, когда и обнаружился Тимур Кибиров.
Стихи Кибирова конца 80-х много кем воспринимались именно как отрицание поэзии. Как же: шуточки из капустника, издевательские центоны, матерок и сплошное «глумление над высоким и прекрасным»! Оценки могли быть разными. Кто ликовал, а кто лил слезы (порой крокодиловы) в связи с «торжеством нигилизма» и «попранием святынь». Ошибались мнимые адепты и пламенные неприятели Кибирова одинаково. Потому что дело было не в ерничестве, нарушениях табу, антисоветчине и интертекстуальности -- всего этого хватало и до Кибирова. (У кого-то получалось совсем не плохо, у многих -- так себе.) Дело было в явлении поэта, твердо знавшего и каждой строкой свидетельствовавшего: я поэт. И не последний -- во всех смыслах.
Так было в пору «прощальных слез», когда «некрасовский скорбный анапест», претворяясь в набоковский, забивал слезами носоглотку. И в блаженные, но затаенно тревожные годы «Парафразиса». И когда на исходе века уют «Улицы Островитянова» сменялся болью «нотаций». И когда измотанный мучительно счастливой игрой амура лирический герой справлял одинокий юбилей. И сейчас -- в ликующем и наглом «Солнечном городе», где поэту отведена вакансия заезжего (то есть чужого и ненужного) Незнайки. Я поэт, сквозь мрак поэтик/ от меня тебе приветик,/ новый бравый мир,/ сбросивший оковы Слова,/ меднолобый всадник новый,/ новенький кумир!
О том, что поэтом быть неприлично, мы узнали лет десять-пятнадцать назад. То есть слухи о том клубились и прежде, но как-то вяло. С одной стороны, цензура им не благоприятствовала: мол, стыдно за стихи должно быть только трутням и тунеядцам (вроде Бродского), а Егору Исаеву есть от чего преисполняться законной гордостью. (Да и классиков, всяких там пушкиных-плюшкиных-евтюшкиных мы врагу не отдадим.) С другой же стороны, на интеллигентских кухнях еще высоко котировались слова о «ворованном воздухе». Правда, в наиболее продвинутых кругах считалось, что Мандельштам уже воздух «украл», «выпрямительный вздох» сделал и на том поэзия кончилась -- один «советский писатель» остался. Пошучивали даже, что Тютчев стишки нарочно терял, Лермонтов ставил мундир и шашку выше виршей, Рембо своевременно подался в работорговлю, а Бродский сам признается: нечего, дескать, сказать ни греку, ни варягу, бумагу перевожу по инерции. Да, велись такие разговорчики под сурдинку и водочку (когда их не было?), но музыки они все же не делали. Гром грянул накануне новых времен -- примерно в ту пору, когда и обнаружился Тимур Кибиров.
Стихи Кибирова конца 80-х много кем воспринимались именно как отрицание поэзии. Как же: шуточки из капустника, издевательские центоны, матерок и сплошное «глумление над высоким и прекрасным»! Оценки могли быть разными. Кто ликовал, а кто лил слезы (порой крокодиловы) в связи с «торжеством нигилизма» и «попранием святынь». Ошибались мнимые адепты и пламенные неприятели Кибирова одинаково. Потому что дело было не в ерничестве, нарушениях табу, антисоветчине и интертекстуальности -- всего этого хватало и до Кибирова. (У кого-то получалось совсем не плохо, у многих -- так себе.) Дело было в явлении поэта, твердо знавшего и каждой строкой свидетельствовавшего: я поэт. И не последний -- во всех смыслах.
Так было в пору «прощальных слез», когда «некрасовский скорбный анапест», претворяясь в набоковский, забивал слезами носоглотку. И в блаженные, но затаенно тревожные годы «Парафразиса». И когда на исходе века уют «Улицы Островитянова» сменялся болью «нотаций». И когда измотанный мучительно счастливой игрой амура лирический герой справлял одинокий юбилей. И сейчас -- в ликующем и наглом «Солнечном городе», где поэту отведена вакансия заезжего (то есть чужого и ненужного) Незнайки. Я поэт, сквозь мрак поэтик/ от меня тебе приветик,/ новый бравый мир,/ сбросивший оковы Слова,/ меднолобый всадник новый,/ новенький кумир!
Андрей НЕМЗЕР

