 |
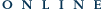 |
|
N°146, 14 августа 2002 |
 |
ИД "Время" |
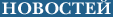 |
 |
 |
 |
Кино контекста
«Змей» из Выборга отправится в Венецию
Как ни оценивай «Змея» Алексея Мурадова, событием фильм уже стал. Дебютный фильм немолодого уже режиссера получил Гран-при конкурса дебютов и приз за лучшую мужскую роль на «Кинотавре», только что с успехом был показан в Выборге на фестивале российского кино и вскоре будет представлен в рамках Международной недели критики на Венецианском фестивале. Кино Мурадова -- программно антизрительское, фестивальное, мрачное и очень-очень неплохое. В лагере российского авторского кино, где до сих пор безраздельно властвовали Александр Сокуров и Алексей Герман, появился еще один режиссер с уверенным почерком и серьезными амбициями.
«Змей» снят на цифровое видео, но «картинка» не раздражает своей искусственностью -- и это одно из достоинств картины. Второе достоинство -- активная, перенасыщенная звуками фонограмма. Шум проходящего поезда, пение птиц и человеческие голоса царапают слух, словно гвозди -- грампластинку. Физиологичность видеоизображения работает на замысел: действительно, первые четверть часа перед нами физиологический очерк из жизни русской провинции начала 90-х годов. Бродяга ведет вдумчивый разговор с предательски пролившейся бутылкой водки, камера выхватывает человеческие лица в беспросветной тьме, рамки кадра сжимают персонажей, словно тиски. Главные герои появляются на экране с точно рассчитанным опозданием. Это офицер МВД, глава семейства, его усталая жена и парализованный сын. Главного героя играет Виктор Соловьев, некогда пародийно изобразивший Дзержинского в «Комедии строгого режима». На этот раз сходство с «железным человеком» уже не имеет пародийного характера. Герой суров как скала, шпыняет несчастную жену и расслабляет мускулы лица только во время общения с сыном. Работа у него под стать быту: он приводит в исполнение смертные приговоры. Сцена казни преступника, снятая жестко и целомудренно, -- одна из лучших в фильме и вызывает в памяти классические кадры из «Короткого фильма об убийстве» Кшиштофа Кесьлевского. «Змей» из названия -- это воздушный змей, который мастерит мальчик, мечтая запустить его в небо вместе с отцом...
По сюжету -- чернуха чернухой, но сильная режиссерская воля спасает картину от сентиментальности. И это третье и главное ее достоинство. Дальше начинаются вопросы. Сравнение «Змея» с американским «Балом монстров» Марка Форстера («Оскар» Хэлли Берри за лучшую женскую роль) может показаться случайным, но невозможно пройти мимо сходства мотивов и изобразительного ряда. И там, и там -- герой-палач, сцена смертной казни, неполноценные дети, гнетуще мрачная «картинка» и робкая надежда на лучшую жизнь. Но в американском независимом кино едва ли найдешь хоть один фильм без «месседжа» -- авторского послания. Есть оно и в «Бале монстров». Если угодно, это фильм о том, что прощение и искупление возможно, но никто никогда не узнает, почему жена жертвы простила палача, -- потому что полюбила его, потому что ей просто некуда больше пойти или, наконец, потому что у нее был с ним удачный секс... Словом, «Бал монстров» -- о неоднозначности и нерасчленимости «высоких» и «низких» мотивов человеческого поведения. Когда же настает черед сформулировать «месседж» «Змея», останавливаешься в недоумении. Рассказав вполне убедительную визуальную и эмоциональную историю, автор словно замирает в скорбной позе, предлагая нам вместе с ним поразмышлять о жестокости жизни и проникнуться сочувствием к жертвам вселенского абсурда.
Проникаться почему-то не хочется. Прежде всего потому, что есть ощущение, что автор неосознанно прячется от возложенной на него задачи. Вместо того чтобы создать свой образ мира со своим глубоко индивидуальным взглядом на человеческую природу, он прикрывается общими местами. Кажется, это родовой порок российского авторского кино. Талантливые (кто-то считает -- «великие») режиссеры в какой-то момент перестают рассчитывать на собственные силы и опираются на подпорки штампов: «вечные культурные ценности», «трагедия российской истории», «драма человеческого одиночества» и т.д. Именно поэтому фильмы Сокурова и Германа (кстати, именно у последнего Мурадов учился на Высших режиссерских курсах) регулярно провозглашаются шедеврами у нас и с вежливым недоумением принимаются большинством западных критиков и зрителей, которым невдомек, что центр тяжести этих картин находится за их пределами. Впрочем, кажется, у Мурадова есть шанс избежать ошибок своих учителей.
Алексей МЕДВЕДЕВ, Выборг

