 |
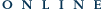 |
|
N°142, 08 августа 2002 |
 |
ИД "Время" |
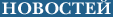 |
 |
 |
 |
«Самая главная в мире вещь»
Одну из своих пьес Евгений Гришковец назвал «Записки русского путешественника». Название оказалось пророческим. Так путешествовать, как путешествует в последнее время Гришковец, мало кому под силу. Он самый востребованный в Европе представитель русского театра, любимец международных форумов и заправский гастролер. Вот и закончившийся недавно Авиньонский фестиваль тоже без Гришковца не обошелся. Это парадоксально, ибо нет, наверное, артиста и автора, более спаянного с реалиями российской жизни, чем проживающий ныне в Калининграде уроженец Кемерово. О том, как воспринимают его спектакли на Западе, с Евгением ГРИШКОВЦОМ беседует Марина ДАВЫДОВА.
-- Ты объездил множество фестивалей. В чем, по-твоему, заключается специфика Авиньона?
-- Я предпочитаю фестивали, на которых основными зрителями оказываются жители города. Авиньон -- совсем другое дело. Сюда зрители съезжаются. Это фестиваль профессиональных пожирателей театра, неутомимых охотников за театром. В Авиньоне самая усталая публика -- не только от жары, цикад, общей суматохи, но и от самого театра. Вот заканчивается спектакль, люди аплодируют, некоторые даже топают ногами, выражая восторг, но примерно пятая часть зала обязательно срывается с места, чтобы успеть на другое представление. Против фамилии «Гришковец» они уже поставили галочку. Для меня очень важно, чтобы человек приходил в театр из дома, из своей обычной жизни и обычного рабочего ритма и уносил свое впечатление домой, а не в гостиничный номер или фестивальный клуб, где спектакль тут же обсудят и выставят ему оценку.
-- А, скажем, на Венском фестивале все иначе?
-- Конечно. Там на спектакль приходят в основном венцы. Нет такого ажиотажа -- посмотреть как можно больше, всюду успеть. Для значительной части авиньонских зрителей важно не глубокое впечатление от спектакля, а просто знакомство с неким театральным объектом. И в этом очевидные издержки Авиньона.
-- В чем же его сильные стороны?
-- Думаю, в том, что именно здесь возникает ощущение, что театр -- самая главная в мире вещь. На протяжении месяца весь город живет театром и буквально пропитывается им. В Авиньоне особое отношение к артистам. Я вот пришел на рынок, чтобы купить гамак, меня спрашивают: а вы, вообще, чем тут занимаетесь? Я говорю: я тут играю, и мне тут же делают большую скидку. Или на площади, где мы сейчас с тобой сидим, я пил в кофе в ресторанчике, и с меня несколько раз вообще не брали денег. Просто потому, что я артист. Люди театра в Авиньоне -- это особая каста.
-- Здесь, а до этого в Вене, ты играл «Планету», спектакль о любви. Тема вроде бы универсальная. Тем не менее ты замечаешь разницу в восприятии спектакля французской, русской и австрийской публикой?
-- Замечаю и не всегда могу ее объяснить. Скажем, во Франции -- не в Германии, не в Польше, и даже не в России -- а именно во Франции на ура идет монолог Ани Дубровской, то есть женская история. Или когда я говорю: «сложно произносить слово «любовь» на родном языке» и многозначительно откашливаюсь, у французов это вызывает бурю эмоций. Видимо, для них звучание этого слова на родном языке и впрямь несет особый смысл. А вот немецкая публика лучше реагирует на точно подмеченные факты жизни. На острые моменты. Они более ранимы, что ли?
-- Тебе приходилось что-то менять в тексте в связи с выступлением перед иностранной аудиторией. Например, в «Планете» ты подходишь к Ане, заглядываешь в книгу, которую она читает, и по цитате зритель понимает: это Акунин. Но что Акунин для француза или немца?
-- Такие моменты я вообще выбрасываю. И не только такие. Например, в русском тексте я говорю: вот, мол, в лесу можно встретить волка. И у русского зрителя это рождает совершенно определенные ассоциации, а у француза или немца -- нет. Волк из леса не воспринимается здесь как сказочный персонаж. Это не рождает специфических детских воспоминаний. В России я рассказываю про жигуленок «Копейка», который едет и словно извиняется перед всеми за то, что он еще жив, здесь заменяю его на старый «Фиат» или старый «Ситроен». В русской версии у меня звучит песня о любви из фильма «Вам и не снилось», здесь -- ария Марии Магдалины из «Иисуса Христа». А вот описание ночного города идет один в один. Или рассказ о том, как женщина выбирает шторы, потом приводит в магазин мужчину, чтобы он помог, а он видит богатство выбора, теряется и уходит курить. Тут ничего менять не надо. Но интереснее другое. У меня есть в тексте рассуждения о том, как путешествие по Европе рождает грусть. И этот момент вызывает в зале искренне удивление. Западной аудитории непривычно слушать сочувственное слово с Востока.
-- Но, если я правильно понимаю, смысл этого сочувствия состоит в том, что человеку может быть плохо или хорошо независимо от качества жизни. Странно, что это удивляет.
-- Любовь, восхищение, даже раздражение они готовы принять, но сочувствие (здесь, мол, тоже бывает плохо) никак. Хотя, по правде говоря, я не очень понимаю, где проходит граница Европы. Кто-то проводит ее по границе с Польшей, кто-то по Уралу.
-- Я думаю, тут намерение важнее реального положения вещей. Европой называется то, что хочет быть Европой. А Россия хочет быть Европой даже больше, чем некоторые европейские страны. Она продолжает оставаться во многих отношениях Азией, но все время поверяет себя Европой. Так что по внутреннему счету мы все же европейцы.
-- Да, конечно. Я жил в Кемерово, на земле, где прежде жили сибирские ханы. Их потом изгнали. Я смотрю иногда на их могильные курганы и думаю: для меня что этот курган, что египетская пирамида -- одинаково далекие вещи.
-- А я вспоминаю 97-й год. Русский сезон в Авиньоне. Он действительно прошел с огромным успехом. Но важно понимать: до этого здесь регулярно проходили какие-то другие сезоны -- корейского театра, индийского, и это настроило зрителей на соответствующую волну. Этнографическую. И вдруг выяснилось, что русский театр -- никакая не этнография. Это совершенно европейское искусство, причем очень высокого уровня. Тут в значительной степени сработал эффект неожиданности.
-- В этом смысле мне сложнее, чем тем, кто приехал сюда в 97-м. Эффекта неожиданности уже нет.
-- Скажи, положа руку на сердце, ты не устал от путешествий?
-- Проще всего сказать: да, устал. Но я представляю себе артиста провинциального театра, который в раздражении воскликнет: «Устал он, видишь ли, пижон!» Я стараюсь отказываться сейчас от многих предложений. Выбираю те маршруты, которые мне действительно интересны. Для меня, например, очень важны Польша и Литва. Это две страны, в которых чрезвычайно развита театральная форма. Лучше, чем где бы то ни было. А вот такого театра, который делаю я, театра, связанного с непосредственным высказыванием, там практически нет. Там я просто физически чувствую, какую волну поднимаю в зрителях. Совсем не так, как во Франции. И это связано не с тем, что поляки или литовцы бывшие «наши», а с самим типом театрального сознания, истосковавшегося по другому, непривычному для них театру. Но вообще следующий год я намерен больше быть в России. Поучаствовать, если получится, в «Золотой маске». То есть тоже фестивале, но родном. Я, знаешь, по нему уже соскучился. И был бы действительно рад, если бы мои «Дредноуты» попали в афишу «Маски». Это очень важная, этапная для меня работа и, если говорить о моноспектаклях, видимо, последняя. Выше «Дредноутов» мне, я думаю, не шагнуть. Дальше я могу заниматься только мемуаристикой на сцене.
-- А на международных фестивалях «Дредноуты» уже были? Это ведь, мягко говоря, не диетическое зрелище. Даже в России некоторые критики обвиняли тебя в милитаризме. А на Западе к воспеванию военной доблести относятся еще более сложно и осторожно.
-- Были, были. Их восторженно принимали в Цюрихе. Не стоит преувеличивать. Общего с Европой у нас на самом деле гораздо больше, чем расхождений.
Беседовала Марина ДАВЫДОВА

