 |
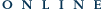 |
|
N°124, 15 июля 2009 |
 |
ИД "Время" |
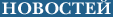 |
 |
 |
 |
Приравнены к античности
В Гамбурге отметили 100-летие «Русских сезонов»
Юбилей дягилевской антрепризы отмечает в этом году весь мир, но для Гамбургского балета это не просто важная историческая дата. Джон Ноймайер, возглавляющий театр вот уже тридцать шесть лет, -- один из самых тщательных и фанатичных исследователей «Русских сезонов», коллекционер, собирающий связанные с ними артефакты. При этом страсть архивная не затушевывает, не покрывает пылью в нем творческую страсть -- и истории про Дягилева, про Нижинского и про Русский балет как таковой он рассказывает и в спектаклях. В его танцах нет ни капли ученой размеренности и коллекционерского занудства. Страдание и пламя, темные судороги безумия и землетрясения ревности -- вот чем наполнены эти балеты. Все годы, что Ноймайер «правит» Гамбургом, каждый сезон он завершает танцфестивалем; и каждый танцфестиваль заканчивается огромным концертом, что называется «Нижинский-гала». Юбилей или не юбилей, было в сезоне что-то связанное с дягилевской антрепризой или не было -- имя легендарного танцовщика всегда стоит на афише. А в этом году, разумеется, вся программа фестиваля была связана с «Русскими сезонами».
Школьный вальс
Фест открылся премьерой -- Джон Ноймайер представил свою версию «Павильона Армиды». Это не фокинский балет, с которого начиналась дягилевская антреприза, и не попытка реконструкции спектакля, от которого остались лишь несколько фотографий. Ноймайер рассказывает свою историю, но, безусловно, с историей «Русских сезонов» связанную. У Фокина путешествующий виконт останавливался в непогоду в павильоне, где висел гобелен с изображением волшебницы Армиды, и оказывался зачарован сошедшей с полотна дамой. Позабыв про ждущую дома невесту, уйти он не мог. У Ноймайера вместо роскошного французского павильона -- тошнотворные серые стены лечебницы, в которую Ромола Нижинская приводит своего уже безумного мужа, когда-то гениального танцовщика. Нижинский (его роль досталась Отто Бубеничеку) все время вырывается из-под ее руки, ускользает, тянет назад, но, захлебываясь слезами, женщина все же силой сдает бедолагу врачам. Главный из них (Иван Урбан) вежливо, но твердо выпроваживает женщину, включает стоящий в углу патефон и с сухим ученым интересом начинает наблюдать, как непроизвольно дергаются мышцы у человека, когда-то бывшего Богом танца, как режут воздух руки и вздрагивает все тело. Единственное украшение тоскливых стен -- эскиз того самого «Павильона Армиды» Бенуа, и вот с помощью музыки и этого эскиза безумец проваливается в воспоминания.
Расходятся мрачные стены, пространство сцены свободно, и у задника появляются ученики балетной школы. Они дурачатся и важно кидают батманы, и их музыкой становится вальс, тот самый «благородный вальс», о котором писали все критики на столетней давности премьере. У Ноймайера ничто не происходит случайно -- и здесь он снова говорит на свою любимую тему. Балетная школа как символ чистоты и благородства, как приют и место совершенно солнечное -- так в ноймайеровском «Щелкунчике» заповедной сказочной страной становится не что-нибудь, а петербургское балетное училище. В одном из мальчиков, самом старательном и самом ясном, Нижинский узнает себя, но логика воспоминания, быстрая мысль сна не дает задержаться, что-то себе самому рассказать -- и вот уже на заднике многократно увеличенный французский эскиз, и по дорожкам парка гуляют чинные зрители.
Именно зрители, потому что среди них и для них танцуют коллеги Нижинского. И -- опять же -- он, но другой, моложе, отчаяннее и веселее: в па-де-труа с Карсавиной и Балдиной (здесь двойником героя становится Александр Рябко, лучший из виртуозов труппы, полеты и вращения которого вполне позволяют ему не стесняясь играть легендарного танцовщика), в «Сиамском танце» (где еще одним отражением Нижинского становится Йохан Штегли, и в мягкой пластике восточного танца вдруг оказывается солидная порция острой и злобной, какой-то надменной эротики). Врач в видении Нижинского преображается в другого мучителя -- в Дягилева, контролирующего каждое передвижение. Вот танцовщик увлекся, стал повторять движения своих юных двойников, в нем проявились сила и полет, но стоит рядом появиться «черному человеку» -- все, руки вновь передергивает косая судорога. Убежать, естественно, можно только в смерть -- закольцевать жизнь, уйти к тому упражняющемуся мальчику, отдать тому, ничему не понимающему, свой пиджак, и замереть, как Призрак розы перед решающим прыжком в окно, и стать свободным.
Коллекция хореографов
С удивительной для творческого человека педантичностью Ноймайер собрал в программу своего феста максимум связанных с дягилевской антрепризой спектаклей. Великий русский импресарио, как известно, делал ставку на появление новых хореографов и доверял последовательно Михаилу Фокину, Вацлаву Нижинскому, Леониду Мясину, Брониславе Нижинской и Джорджу Баланчину. Каждому из хореографов на фестивале было выделено время и место.
Поклоном Фокину стал ноймайеровский «Павильон Армиды» и нетронуто-фокинское «Видение розы». Маленькую историю о том, как к уснувшей девушке явился Призрак розы, подаренной ей на балу, станцевали парижские звезды Летиция Пюжоль и Матиас Хейманн, и вдруг выяснилось, что это самое «Видение» -- это таки дуэт. То есть когда его танцуют у нас в России, потом трудно вспомнить, кто же был Девушкой -- ну вошла, села в кресло и уснула, и хорошо бы не мешала дальше танцовщику летать над сценой, когда ей все-таки пару шагов надо сделать. Летиция Пюжоль так графично прорисовывала свой текст, так блаженно-кокетливо вынимала стопы из-под длинного платья, так синхронно взлетала рядом с танцовщиком, что просто напомнила: это ЕЕ сон. И абы кому Матиас Хейманн не приснится.
Ну, Нижинский царил в программе, это понятно. Но не только как персонаж балетов (а кроме «Павильона Армиды» показали еще и раннего ноймайеровского «Вацлава»), но и как хореограф. Надо сказать, что труппа Гамбургского балета станцевала его «Весну священную» старательно, но так задорно, что сюжет о человеческом жертвоприношении в языческой Руси стал выглядеть каким-то праздником на лужайке. Нет, правда: топочутся какие-то смешные девицы с раскрашенными свеклой щеками, вбок подпрыгивают, черные косы, заплетенные на узбекский манер, у них мотаются, солнце светит... К этому спектаклю на фесте не успели выпустить буклет, и небалетоманская публика не разобралась в сюжете. Поэтому в зале то и дело раздавались смешки -- народу казалось, что ему показывают комедию. А когда в кругу медведей девица перестала загнанно прыгать и наконец упала и сложила ручки на груди -- публика изумилась: она что, умерла? Мои соседи так и выясняли между собой -- а что это было? Ой, она с самого начала знала, что умрет, да? Тут, конечно, дело еще и в оркестре -- виртуозный и чуткий, осторожный и решительный Гамбургский филармонический, ведомый Клауспетером Зайбелем, убрал, насколько смог, угрозу в музыке Стравинского, оставив лишь торжествующую энергию ее. Безусловно, имели право на трактовку, но результат оказался довольно странным.
Характерно, что в другой вечер, когда оркестр вел Кристоф Эберле, а на сцене шла версия «Весны» Ноймайера, все было в порядке. И ужас музыки, и замирающее ожидание в ней, и заполошная надежда, и усталая беспомощность -- все было, и в раннем балете гамбургского гуру -- кажется, единственном его экспрессионистском опусе -- все отражалось, усиливалось и мощной волной шло в зал. На заднике отчетливо пылала атомная заря, а отчаявшееся человечество приобретало пластику сломанных кукол, теряющих волю и не способных даже плавно взмахнуть рукой -- что может быть более отчетливым символом конца света для балетного человека, чем тотальная окостенелость?
Мясина в программе представляла труппа Donlon Dance company из Саарбрюкена -- там восстановили «Парад», любопытный лишь тем, что его оформлял Пабло Пикассо (прогулки людей в картонных коробках по сцене впечатляющи, но Мясин за долгую жизнь сочинил и несколько богатых танцем спектаклей). Про Брониславу Нижинскую напомнили лишь маленьким соло из «Голубого экспресса» -- восходящая звездочка Гамбургского балета Александр Труш получил эту партию от хореографа-репетитора Кевина Хагена, который в свое время, будучи премьером, выучил ее с Антоном Долиным, танцевавшим в спектакле Нижинской. То есть наследник по прямой; и у его атлета, что хвастается на пляже бицепсами и всячески строит из себя ленивого воображалу, но при этом с легкостью вытворяет чрезвычайно непростые трюки, были и необходимый артистизм, и достаточная техника. Тот же Труш отвечал и за Баланчина -- в премьерном показе «Блудного сына», а в «Павильоне Армиды» был Нижинским-школьником, и поскольку у Ноймайера, напомним, ничего просто так не бывает, явно, что на девятнадцатилетнего уроженца Днепропетровска, два года назад закончившего школу Гамбургского балета, будет в дальнейшем сделана серьезная ставка.
Истории историй
При всем безусловном богатстве коллекции «Русского балета», что собрал в фестивальные дни Ноймайер, самыми интересными экспонатами все равно стали не музейные (реставрированные) версии, а сегодняшние спектакли, лишь отдающие вежливый поклон легендарной антрепризе. Истории историй -- как изменялись трактовки; три версии «Послеполуденного отдыха фавна», например. Версия Нижинского -- воспроизведенная с академичной сухостью мюнхенскими артистами; версия Джерома Роббинса, где действие перенесено в балетный класс, и герои -- танцовщик и балерина -- весь дуэт смотрят не друг на друга, а на свое отражение в воображаемом зеркале; стоит герою на секунду отвлечься от ремесла и захотеть в реальности поцеловать девушку, она тут же сбегает (очень тихий, скрытно-любопытствующий и очень правильный дуэт Сильвии Аццони и Владимира Малахова). Версия Ноймайера, где линии напряжения между двумя мужчинами и женщиной перепутаны, разорваны, снова сплетены -- и все это на фоне лежащей античной статуи, явно на каких-то греческих развалинах (Элен Буше, Отто Бубеничек и Эдвин Ревазов плели и крушили эту хореографическую «колыбель для кошки»).
Более всего заворожила ноймайеровская версия «Дафниса и Хлои». В наше время как-то неудобно писать про живого человека, что он великий и что он, собственно говоря, гениальный балетмейстер. Ну потому что каждый пиарщик стремится объявить своего подопечного звездой мирового класса и творцом такой силы, что вот только с Мариусом Петипа и можно сравнивать. И все же вот живет на свете человек, не так уж далеко живет, в Гамбурге, и уже тридцать пять лет делает великий театр. И раз уж никто из московских продюсеров так и не сподобился пока привезти его на гастроли (при этом в Петербург театр приезжал в 2003-м и еще приедет этой осенью), может, какое турбюро соберется устраивать туры специально «на Ноймайера»? Потому что любому человеку, что интересуется искусством танца в принципе, это необходимо видеть.
Как медленно разворачивается музыка Равеля. Как в Греции в 1912 году (время написания музыки) осматривает достопримечательности стайка ученых девиц под присмотром суровой гувернантки. Как в пластике этих девиц -- скромность, скромность, скромность -- и вдруг такое обещание и такое любопытство, что от неожиданности просто вздрагиваешь. Как на этих школьниц обращает внимание четверка матросов, и сколько ленивой власти в каждом движении, как открывается охота -- без злобы, лишь ради развлечения, потому и отступаются легко, когда на охрану добродетелей подопечных встает почтенная дама. Как заученный в той же степени, что и школьницы, студент Дафнис бродит с путеводителем меж скульптур и вдруг оказывается в той самой мифической Греции, где семенят надменные нимфы и где не в моде робкие жесты и осторожные шаги -- миф кидает в отчаянный танец, миф требует самоотдачи и азарта. Превращения, что с тысячами людей случаются каждый день, превращения из почтительных учеников и учениц во взрослых людей со своими мечтами, своей дерзостью и своими удовольствиями, описаны в маленьком балете Ноймайера. В его взгляде -- мудрость и... чуть-чуть гордости?
Ну потому что на самом-то деле это снова балет про балет. «Русские сезоны» в истории балета приравнены к античности в истории человечества; понятно, что и до дягилевской антрепризы, и до Древней Греции много чего было -- ну хотя бы триста лет истории французского балета и Древний Египет, но для Ноймайера это неважно. Начало нового мира, новой эпохи -- и уравнены времена, и уже потом начинаешь выискивать аргументы «за» и «против», в момент спектакля решительно веришь. А еще это, конечно же, о пути, что проходит каждый артист -- от полного и почтительного подчинения учителю до осознания себя, собственной ценности и собственных интересов. И Ноймайеру, что этот путь давно прошел и сам уже стал учителем, удается с улыбкой принять и эту метаморфозу своих подопечных.
Анна ГОРДЕЕВА

