 |
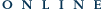 |
|
N°231, 12 декабря 2008 |
 |
ИД "Время" |
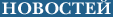 |
 |
 |
 |
Малаховское барокко
Премьера «Караваджо» в Берлинском балете
«Караваджо», сочиненный итальянским хореографом Мауро Бигонзетти (в Москву и Питер несколько лет назад его собственная компания Aterballetto привозила «Сон в летнюю ночь», запомнившийся тем, что Пэком была крепкая девушка, на одной ноге которой был пуант, а на другой -- армейский ботинок -- андрогин, стало быть) не буквальная биография героя, но символическое повествование о пути художника. Россиянам этот жанр хорошо знаком по творчеству Бориса Эйфмана -- в такой манере он рассказывал нам о Чайковском, Спесивцевой, Мольере и Баланчине. Рецепт давно известен: страдающий герой, жестокое и развратное общество, муза-спасительница, видения материализующихся произведений, и, если бы не программка в руках, можно было бы заподозрить, что и «Караваджо» поставил в Берлине Борис Яковлевич. Тем более что в Берлинском балете он работал -- работающий там худруком Владимир Малахов приглашал повторить «Чайковского» и сам танцевал заглавную роль. В «Караваджо» тоже в главной роли Малахов.
Балет и начинается с его соло: труппа сидит на сцене в полутьме, худрук в луче света медленно сплетает руки и открывает ногу вверх градусов на 135. Руки будто лишены костей, обвиваясь вокруг друг друга, нога тянется упруго -- ничего сложного в тексте нет, но малаховская магия, его умение сконцентрировать внимание зала на себе, что позволяет ему последние двадцать лет быть одним из лучших танцовщиков мира, мгновенно захватывает зал. Художник пробует силы, обозначает себя в пространстве, и это нечто вроде пролога, потому что развертывание темы начинается с появления девушки (Полина Семионова).
Биография Караваджо, одного из самых мрачных и пылких художников барокко, содержит в себе авантюрный роман (случайное убийство и бегство от наказания) и религиозную поэму одновременно; своих страстных святых он писал, используя в качестве моделей уличный сброд. Но вот эта тема -- «когда б вы знали, из какого сора» -- кажется слишком низкой для патетического Бигонзетти. Художник творит не иначе как по прямому повелению божьему, и роль, что досталась Семионовой, называется просто: Свет.
Свет выходит из темного задника и берет художника в оборот: ухватив чуть не за щеки, заставляет смотреть в глаза, бьет по позвоночнику пальцем так, что он вздрагивает как от удара током, буквально заламывает руку за спину и берет шею рукой в захват почище любого спецназовца. Так Свет отвлекает художника от соблазнов уличной толпы: та всегда готова вовлечь творца в самые грязные развлечения.
Как, например, римский карнавал: кордебалет взлетает себе во вполне классических прыжках и аккуратно вертится в воздухе, все чинно-мирно, но по бокам сцены, небрежно прислоняясь к кулисам, стоят два юных Вакха с виноградными гроздьями в руках (Михаил Канискин и Дмитрий Семионов). Отщипывают виноградины, плюются косточками и пускаются в танец пьяный и буйный. Толпа приносит к ним Художника, и они плотно зажимают его меж собой (так что ноги болтаются в воздухе) и начинают над творцом изгаляться. Он, бедолага, лежит в их объятиях, и они выдавливают из кистей винограда сок ему в рот; при этом их руки обозначают движение, свойственное занятию более интимному, чем выжимание ягодного сока.
Художник поддается толпе и пускается в пьяный пляс, но ужасно страдает при этом. Страдает от стычки со случайным знакомцем (тем самым, которого в реальной биографии убил, но надо сказать, что момент смерти в хореографии как-то не прописан) и от общего душевного разброда, но тут Свет подставляет свое хрупкое плечо под обессилено ломающуюся руку творца и убеждает, что спасение в работе.
Второй акт собственно работе и посвящен -- художник создает цикл, главным героем которого становится св. Матфей. Над сценой (изначально лишенной декораций) зависает огромная золоченая рама, и в ней изредка возникают двойники героев, танцующих на сцене: этакие стоп-кадры. Надо сказать, что Карло Черри, ответственный за сценографию и свет, создал удивительно точный образ живописи Караваджо: не прямая репродукция, но представление о его цвете и свете, существующее сегодня. Черный задник, золоченая, но не жирная линия, и свет человеческих тел, одетых в легкие туники (за костюмы, правда, надо сказать спасибо Кристоферу Миллеру и Луи Свендейлу). И широкое алое полотно, что вытаскивает из рамы художник, окончательно потерявший грань между реальностью и искусством (позже персонаж выходит из рамы, и это значит -- дело к финалу, к смерти).
В спектакле есть красивые фрагменты, особенно это касается беззаботных и чувственных, но ничуть не вызывающих танцев кордебалета. Всегда приятно взглянуть на Малахова -- ломаный-переломаный, сражающийся с травмами, он в «пьяном» монологе вдруг выдает такой класс классического танца, что мало кто из артистов в мире способен воспроизвести. Но как только хореограф начинает разговаривать про Свет, про Творчество, про Судьбу (непременно с большой буквы), сцену заливает трудновыносимый пафос, а танец становится тривиальным и нудным. Это и роднит Бигонзетти с Эйфманом, а еще потребительское отношение к музыке. Партитура для балета настрогана Бруно Моретти из сочинений Монтеверди («Коронация Поппеи», «Орфей» и более мелких произведений), и куски плохо прилегают друг к другу. То есть паузы, возникающие между фрагментами, не смотрятся (слышатся) естественно, а выглядят тем, что они и есть на самом деле: рваными границами обкорнанной музыки. Конечно, Staatskapelle под руководством Пола Коннелли делает все что может, но в таких обстоятельствах оркестр может немногое.
А итогом вечера была овация. Овация прежде всего Малахову. Потому что весь Берлин пришел смотреть именно на него -- любимого танцовщика, которому из-за его дара и был поручен театр. И что уж там происходит рядом на сцене -- неважно. Малахов -- принц даже в лохмотьях, Малахов -- жертва, Малахов -- творец: любимые и привычные маски примерены с привычным мастерством. И все довольны.
Анна ГОРДЕЕВА

