 |
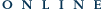 |
|
N°65, 16 апреля 2008 |
 |
ИД "Время" |
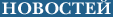 |
 |
 |
 |
Россия и Запад: переоценка
В чем причина все усиливающихся трений между Россией и Западом? В несоответствии реальности и ожиданий, оказавшихся иллюзорными. На смену несбывшимся иллюзиям приходят негодование и возмущение.
Россия снова сильна и могущественна, но ни она сама, ни Запад не знают, как вести себя в данных обстоятельствах. И мы не добьемся успеха до тех пор, пока не научимся трезво оценивать и понимать наши различающиеся интересы, политическую культуру и систему ценностей. Но это будет трудным делом, если не признать несколько исходных положений.
Во-первых, точно так же, как в 90-е годы прошлого столетия, мы не могли руководствоваться «духом ялтинских договоренностей», партнерские отношения, установленные сразу после окончания «холодной войны», не могут сегодня служить образцом для налаживания сотрудничества. В основе того партнерства лежали дезориентация и слабость одной стороны и завышенные ожидания обеих. Поэтому оно не могло быть устойчивым и долговечным и в настоящее время изжило себя.
Во-вторых, ни о какой «новой холодной войне» не может быть и речи. «Холодная война» представляла собой идеологическую и военную конфронтацию глобального масштаба. Конечно, ценности имеют значение, но, хотя различия между либеральной и управляемой демократией приводят к трениям, это не угрожает западной цивилизации или образу жизни (в отличие от советского коммунизма и радикального ислама).
В решении некоторых глобальных вопросов Россия может либо играть конструктивную роль, либо вставлять палки в колеса, и она стремится довести это до сведения Запада. Однако отношения между Москвой и западными столицами больше не являются стержнем международных отношений. У России теперь есть региональные приоритеты, а глобальные угрозы Западу исходят из других мест. Западная военная мощь не направлена против России, и хотя Москва использует вновь обретенную экономическую мощь в геополитических целях, она действует в контексте взаимозависимости, немыслимой в эпоху «холодной войны».
В-третьих, в том, что касается подхода к обеспечению безопасности, наши пути не сближались, а скорее расходились.
Несмотря на неизбежные метания и непоследовательность, НАТО отказалась от прежних представлений и осознала, что Европа и Россия стоят перед общими вызовами. Россия же заменила концепцию периода «холодной войны» моделью, характерной для предшествовавшей ей эпохи: Москва настаивает на соблюдении «баланса сил», разграничении «зон интересов» и геополитике с явным преобладанием геоэкономики. Европейский союз руководствуется постмодернистскими принципами стирания границ между странами и нациями, тогда как Россия остается подчеркнуто модернистским государством, ревниво оберегающим свои государственность, суверенитет и национальные интересы.
В-четвертых, в новых независимых государствах, образовавшихся после распада Советского Союза, «правила игры» в обозримом будущем останутся трудными для понимания. Посредством жесткой и мягкой силы Москва попытается превратить регион в «зону своих особых интересов», не считаясь с желаниями третьей стороны или самих этих стран. Запад продолжит проявлять законный интерес к государствам, которые твердо намерены присоединиться к его институтам, и не позволит России быть арбитром в данном вопросе либо препятствовать развитию отношений постсоветских стран с Западом.
В-пятых, энергетика останется камнем преткновения. С помощью давления, сотрудничества или финансовых стимулов Россия попытается взять под контроль всю цепочку транспортировки и распределения энергоносителей. ЕС хотя и с некоторой пробуксовкой, но будет проводить в этой области политику, основанную на принципах многообразия, прозрачности и свободы выбора. Как не раз бывало в прошлом, стремление России сыграть на наших разногласиях может помочь нам преодолеть их.
В-шестых, принципы и естественные преимущества не должны сеять рознь и отталкивать нас друг от друга. Если не будет принято твердое решение сотрудничать там, где это возможно, то пострадают обе стороны.
Испортившиеся отношения
Запад постепенно признает ошибочность своих суждений относительно России в 1990-х годах. Большинство экспертов и официальных лиц осознали, что крушение Советского Союза было не только и не столько «торжеством демократии», сколько следствием экономического распада системы и национального возрождения народов, населявших СССР, в том числе и русского.
Но в широкой политической сфере того времени в основном преобладали оптимистичные, а порой даже «триумфалистские» настроения в отношении России. Последствия распада государственных учреждений в стране с цепкими и устойчивыми силовыми органами, неразвитым гражданским обществом, подчиненным и зависимым судопроизводством и отсутствием прав собственности, а также переход реальной власти от командно-административной системы к незаконным, а зачастую и криминальным структурам должны были породить в лучшем случае тревогу относительно будущего. Вместо этого большинство обозревателей оптимистично оценивали «успехи» России через призму «переходного периода».
Мало кто в полной мере отдавал себе отчет в том, что на смену государственному планированию пришли не свободные, а манипулируемые рынки или что у рычагов власти находятся самые непопулярные лица. Еще меньше людей в США и Европе понимали, что безоговорочная поддержка ими ельцинских реформ вынудит многих россиян задаться вопросом, не хочет ли Запад просто ослабить их страну и насколько актуальны западные ценности и модели для тех уникальных условий, в которых оказалась Россия. Вместо того чтобы помочь россиянам пройти через родовые муки демократии, Запад поневоле оказался втянут в процесс, который ее дискредитировал.
Второй серьезной ошибкой была убежденность в том, что, когда улягутся страсти, Москва примирится со статус-кво, который сложился в мире после окончания «холодной войны». В 1992-м Россия обрела границы, которых у нее никогда раньше не было и которые для большинства населения не имели никакого смысла с точки зрения экономики, безопасности или цивилизационной общности.
Запад недооценивал, насколько популярна во всех слоях российского общества точка зрения, будто превосходство России и русских интересов в бывшем Советском Союзе было правомерным и естественным. Точно так же, когда Москва заговорила о «равенстве», многим на Западе казалось, что они имели в виду равенство в смысле гражданского состояния, но не равные привилегии в принятии решений по вопросам общеевропейской значимости, включая политику НАТО. Из логики «переходного периода» неизбежно вытекало, что разногласия будут сглаживаться, а не обостряться. Неприятные воззрения приписывались «националистам», и все надеялись, что Россия продолжит приспосабливаться и адаптироваться к новым реалиям.
Представления западных стратегов были ущербными, но и российские политические и силовые ведомства демонстрировали очень плохое понимание того, как работают евроатлантические учреждения. Они лелеяли нереалистичные ожидания относительно уступок, на которые мог пойти Запад. Похоже, российские демократы верили, что если с Россией будут обращаться, как с Германией канцлера Аденауэра, то и она будет вести себя соответственно. При этом совершенно не учитывался тот факт, что, несмотря на военное поражение, суровую реальность оккупации, смену элит и учреждений, осуществившуюся союзными властями, соседи ФРГ лишь спустя десять лет после окончания войны вздохнули с облегчением и начали относиться к Германии как полноправному партнеру по НАТО и другим трансатлантическим структурам.
Если сегодня диалог о расширении Североатлантического альянса на восток -- это разговор глухих, то в 1990-х ситуация не была столь безнадежной, хотя стороны и говорили на разных языках. Нет сомнений, что государства бывшего Варшавского договора рассматривали членство в НАТО как защиту от возрождающейся России. Однако их изначальным и основополагающим мотивом было стремление избавиться от наследия «серой зоны» и присоединиться к тому мироустройству, тем интересам и системе ценностей, в которых россияне не желали, по их собственному выражению, «растворяться».
Из 16 стран -- членов блока ни одна не рассматривала расширение на восток как инструмент или средство сдерживания России, и все они считали опасения Москвы поводом для более осторожных и осмотрительных действий. Для большинства, но в первую очередь для Германии, главным мотивом было предотвращение распада структур безопасности и «ренационализации» оборонных ведомств в хрупких и незрелых демократиях стран бывшего Варшавского договора.
Вторым, но не менее важным мотивом было опасение, что США самоустранятся от решения проблем европейской безопасности, и если не фактически, то по крайней мере на уровне национального менталитета снова возникнет «немецкая проблема».
Конфликт вокруг Косово стал последней каплей для российских политиков. НАТО до сих пор недооценивает влияние этого противостояния. После марта 1999 года Североатлантический блок уже не может утверждать, что является исключительно оборонительным альянсом. В самом начале эта организация действительно была чисто оборонительной, и это мешало российским политикам разглядеть другие, не менее важные аспекты ее деятельности. НАТО не могла закрыть глаза на гуманитарную катастрофу, которая разворачивалась буквально на ее пороге. Россия не проявила ни малейшего интереса к гуманитарному измерению балканского кризиса, но для западных демократий это было определяющим вопросом и заставило правительства некоторых натовских стран пересмотреть свою политику. В штаб-квартире НАТО с полным непониманием восприняли сентенцию, появившуюся на страницах газеты «Красная звезда»: «Сегодня они бомбят Югославию, а целятся в Россию».
Между тем Москва не проявила должной ответственности в этом регионе. У нее были все возможности для того, чтобы остановить Слободана Милошевича у края пропасти. Но по окончании дипломатического процесса все члены Контактной группы пришли к выводу: вместо того чтобы воспользоваться своими преимуществами, Россия предпочла утешать и успокаивать Милошевича. Наконец, не стоит забывать, что трения начались отнюдь не с Косово. Пятью годами ранее, в самом начале бомбежек в Боснии, санкционированных, между прочим, Советом Безопасности ООН, Борис Ельцин предостерегал, что на смену идеологической конфронтации приходит борьба за сферы влияния в геополитике.
После разочарования конца 1990-х нереалистичные ожидания и стереотипные аргументы возродились в связи с президентством Владимира Путина.
Западные идеологи переходного периода и экономического прогресса высоко оценили меры Путина, направленные на оживление деловой активности, введенную им плоскую шкалу налогообложения и мнимый экономический либерализм. Для их оппонентов, однако, второй российский президент был прежде всего бывшим офицером КГБ. Эти вопросы заслонили более важный момент: внутри самой России возрождение государства тогда воспринималось как нечто совершенно законное и необходимое.
С социальной точки зрения Владимир Путин олицетворял приход нового постсоветского класса: самоуверенных, обеспеченных людей, мечтающих о сильной России, не боящейся Запада и не испытывающей ни малейшей ностальгии по коммунизму.
С геополитической точки зрения президент Путин олицетворял возрождение России как «великой страны», которая намерена творить историю, а не полагаться на ее милость. Если Михаил Горбачев и Борис Ельцин стремились создавать на международной арене условия, которые способствовали бы «внутренним переменам», то Путин прибег к старому методу, испытанному Сталиным, -- восстановлению «вертикали власти» как способу возвращения России ее законного места на международной арене, прежде всего в бывшем СССР.
Политическая логика главы Российского государства быстро стала бы понятна, если бы не события 11 сентября 2001 года. Путин не препятствовал развертыванию американских вооруженных сил в Центральной Азии и возобновил переговоры с НАТО. Но в то время как правительства западных стран уже смотрели на мир с дурными предчувствиями, президент России видел открывшиеся возможности. Путин сообразил, что удар по башням-близнецам изменил координаты мировой политики, и решил не упускать своего шанса.
Теперь не Россия нуждалась в Западе, а наоборот. Путин вполне справедливо предположил, что новое партнерство развяжет ему руки в борьбе с «мусульманским экстремизмом» на Северном Кавказе, но не вполне оправданно ожидал, что Запад согласится на доминирование России на территории СНГ. Он также рассчитывал, что, согласившись с правом Кремля проводить собственную политику в отношении Ирака и Ирана, Запад не сможет возражать против такой политики или спрашивать, как она способствует укреплению партнерства. В результате к концу 2003-го последовал очередной всплеск встречных обвинений и обоюдного разочарования.
Но только после «цветных» революций в Грузии и особенно в Украине разочарование переросло в антагонизм. В кругах, которые приучены думать, что «самостоятельной Украины никогда не будет», «оранжевую революцию» восприняли как спецоперацию Запада. В контексте партнерства, начавшегося после 11 сентября 2001 года, существования Совета Россия--НАТО и многих лет сотрудничества с Евросоюзом это было расценено как предательство. Наши нынешние разногласия необходимо рассматривать на этом фоне.
Перечень противоречий
Ужесточение ценностной риторики. Каждая из сторон стала решительнее отстаивать свои ценности со всеми вытекающими из этого последствиями, некоторые из которых были непредсказуемы. Президент Владимир Путин не без успеха попытался синтезировать дореволюционные, советские и постсоветские традиции и идеалы. В этом нет ничего принципиально нового. На протяжении всей истории национальные культуры по-своему реагируют на политико-экономические изменения. Глобализация не лишила страны способности быть разборчивыми, но западным либералам это трудно понять и принять.
История научила нас, что капитализм, процветание и либерализм идут рука об руку. Но сегодня нас окружают успешно развивающиеся капиталистические, и при этом нелиберальные, государства: не только Россия, но также и Китай и ряд других государств Тихоокеанского бассейна. С большим неудовольствием мы обнаруживаем, что в мире хватает высокообразованных, состоятельных и много путешествующих людей, живущих по своим меркам и не желающих считаться с нашими принципами.
Это не только наша проблема. Системы ценностей могущественных государств обычно оказывают заметное влияние за пределами собственных границ. Так, существует глубокая связь между советским наследием и способностью бывших советских республик определять свой путь развития. Но не менее велика и притягательная сила государств, недавно присоединившихся к Европейскому союзу. Иными словами, существует пересечение двух систем ценностей -- той Европой, в которой мы хотим жить, и тем, что реалисты называют геополитикой.
Эта взаимосвязь позволяет устанавливать правила игры, но иногда препятствует их соблюдению. НАТО и ЕС существуют как сообщества, опирающиеся на общие ценности, интересы и приоритеты. Если Россия их не разделяет, она не может претендовать на права и преимущества, имеющиеся у стран, которые под ними подписываются. Она также не может претендовать и на признание ее «зон интересов», если это противоречит интересам государств, попадающих в эти зоны.
России предстоит сделать выбор, но так же должен поступить и Запад. Ему следует согласиться с закономерностями разнообразных интеграционных процессов, происходящих в Евразии. Если Белоруссия, Армения или Казахстан стремятся к более тесным связям с Россией, то это их выбор независимо от того, нравятся Западу тамошние политические системы или нет. Вместе с тем нам будет трудно играть по этим правилам.
Во-первых, потому что в государствах бывшего СССР ценности и приоритеты являются предметом внутренних споров, и участники дебатов всегда апеллируют к союзникам вовне.
Во-вторых, потому что ценности влияют на деловой климат и культуру, а деловая культура влияет на бизнес.
Наконец, потому что в нашем взаимозависимом мире некоторые решения в области экономики (например, о маршруте газопроводов) -- это по-прежнему игра с нулевой суммой.
Энергетика. На первый взгляд ничто не может быть дальше от системы ценностей, чем рынки энергоносителей. Но на практике все иначе. От ценностей зависит, как мы определяем рынки и как ведем себя на них. Для либеральных экономистов рынки означают свободу для покупателя и продавца, а монополии -- ее противоположность. Для бывших марксистов-ленинцев рынки означают цепочку «деньги -- товар -- деньги» в любом виде, а монополию они воспринимают как одну из разновидностей рынка.
Первые видят угрозу в отсутствии выбора, вторые -- в отсутствии контроля. Вот почему определение энергетической безопасности, предложенное главным поставщиком: «регулирование из единого центра режимов добычи, транспортировки, подземного хранения и продажи» (глава «Газпрома» Алексей Миллер, март 2006 года), так резко расходится с определением покупателя: «диверсификация источников, поставщиков и маршрутов транспортировки» (Комиссия ЕС, январь 2007-го).
Когда мы слышим о том, что «Газпром» имеет право «контролировать всю стоимостную цепочку», и видим, как он пытается осуществлять это на практике, у многих возникает беспокойство. Как и в каких целях такой контроль можно использовать? И не приведет ли это к тому, что в конце концов нам придется платить за энергоносители больше, чем на либеральном и диверсифицированном рынке.
Неудивительно, что некоторые чрезмерно драматизируют ситуацию, сравнивая мощь энергетического сектора России, находящегося под контролем государства, с мощью Советской армии. Хотя определенные параллели существуют, аналогия не учитывает важных различий. Европа не нуждалась в советских Вооруженных силах, но российские энергоресурсы ей необходимы. В свою очередь России нужны европейские рынки.
Суть проблемы совершенно иная. Военная система периода идеологической конфронтации в лучшем случае была сбалансирована, но ни о какой взаимозависимости тогда речи не было. Россия и Евросоюз сегодня взаимозависимы в силу своих отношений в области энергетики, которые, однако, не являются сбалансированными.
Россия как поставщик представляет собой одно государство, тогда как потребитель -- Европейский союз -- это множество государств, и, в отличие от торговли, в которой у ЕС выработана единая политика, в сфере энергетики такой политики до сих пор нет. Более того, главный поставщик «Газпром» неотделим от российской государственной власти, тогда как его партнер Евросоюз -- совокупность государственных образований и частных компаний. Такие различия не только создают противоречия между властью и потребительской иерархией, но и мешают Еврокомиссии распространять действие своих правил и использовать те ограниченные полномочия, которыми она наделена.
Вместе с тем до недавнего времени европейцев тревожили модель, методы или власть «Газпрома». Теперь ситуация изменилась по четырем причинам.
Во-первых, существует озабоченность по поводу того, что, несмотря на неисчерпаемые ресурсы, Россия может не обеспечить своевременные поставки из наличных ресурсов для удовлетворения растущих потребностей по приемлемым ценам.
Во-вторых, новые страны -- члены Евросоюза, которые были некогда частью советской энергетической системы, теперь являются уязвимыми звеньями транзитной цепочки.
В-третьих, новая конфигурация Европейского союза обострила реакцию на энергетическую политику Москвы в отношении наших «новых соседей», в первую очередь Украины, а также Турции и других стран, осуществляющих транзит энергоресурсов либо производящих энергоносители.
В-четвертых, учитывая наши геополитические разногласия и роль геополитического фактора в энергетической стратегии Кремля, благоразумно задаться вопросом, как будет использоваться это влияние.
Поскольку в энергетической политике тесно переплетаются наши ценности, политические и экономические интересы, она становится зеркалом и средоточием всех разногласий и противоречий. Если мы хотим наладить хорошие рабочие отношения, энергетическую взаимозависимость необходимо сделать продуктивной.
Военные противоречия. Несмотря на почти полную демилитаризацию отношений и непомерное количество совместных институциональных механизмов, оборонная политика НАТО вызывает в России больше опасений сегодня, чем когда-либо после окончания «холодной войны». Этому способствовали два раунда расширения альянса, «цветные» революции и перспектива дальнейшего расширения блока, политика на Балканах, новые американские военные базы в Румынии и Болгарии, национальная противоракетная оборона США и разговоры о «глобальной НАТО».
Внутри Североатлантического блока реанимация прежних российских опасений воспринимается с недоумением: как эта политика может считаться антироссийской? Ведь ни одна из стран -- членов альянса не намерена угрожать Москве.
Однако военный истеблишмент России, представляющий старую школу мышления, видит угрозу в самих возможностях и считает, что сегодняшние добрые намерения могут перестать быть таковыми завтра. В самой первой Военной доктрине РФ говорилось, что Россия будет энергично сопротивляться военно-политическому присутствию третьих стран в соседних государствах. При этом никто не задавался вопросами, каким целям может служить это «присутствие» и имеют ли третьи страны право попросить о нем.
Суть противоречий -- в столкновении разных подходов к безопасности. Российские военные (как и многие другие) способны воспринимать НАТО не иначе как классический военный альянс. Аргументов о стабилизирующих последствиях членства в нем, положительном влиянии на внутреннюю безопасность, уничтожении избыточного оружия и токсичных материалов, сокращении вооруженных сил и профессионализации армии, демилитаризации полиции и пограничных служб, демократическом контроле за оборонным ведомством и праве независимых государств выбирать себе партнеров Москва не слышит. Равно как и рассуждений о том, что интересы множества малых стран значат не меньше, чем интересы крупного государства.
Вместе с тем разумно задать некоторые вопросы.
Как, по мнению российских военных, можно согласовать долгосрочные оборонительные программы блока (и серьезное снижение военных расходов) с намерением угрожать России?
Почему НАТО лишила себя возможностей и средств, необходимых для достижения данной цели?
Почему новые члены альянса пошли еще дальше, развивая «нишевые» возможности для развертывания экспедиционных войск вдали от своих рубежей и границ России?
Стоит ли удивляться, что спустя семь лет после того, как Пентагон обозначил меры по противодействию угрозе со стороны «государств-изгоев», в странах -- членах НАТО устанавливаются элементы противоракетной обороны?
Если Россия -- предполагаемый враг, почему ее приглашали к участию в этой программе и почему она была проинформирована более подробно, чем Польша или Чешская Республика?
Если задача состоит в том, чтобы нейтрализовать межконтинентальные баллистические ракеты России (а не Ирана), для чего развертывать противоракетный щит в Восточной Европе?
Если на эти вопросы и есть разумные ответы, то в Брюсселе их никто пока не слышал. Вывод, который сделали некоторые руководители альянса, заключается в том, что «угроза НАТО» просто сидит глубоко в генах российского военного руководства. Другие приходят к заключению, что разговоры об «угрозе» - это скорее инструмент внешней и внутренней политики. Противоракетная оборона может стать долгожданным поводом для выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), денонсации стамбульских обязательств Москвы в рамках ОБСЕ, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и для убеждения россиян в том, что у них снова появился враг. Но как долго одна из сторон сможет упорно возрождать «образ врага», не встретив аналогичного ответа с другой стороны?
Думать о последствиях
Хотя новой «холодной войны» не ожидается, можно провести параллели между завершением партнерства после 1945 года и ухудшением отношений России и ее западных соседей с тех пор, как закончилась «эпоха романтизма».
В принципе и то и другое было неизбежно. Что касается интересов и политической культуры, то пропасть была слишком глубока для того, чтобы после победы над нацистской Германией между СССР и его бывшими союзниками продолжалось сколько-нибудь значимое сотрудничество. Сегодня эта пропасть значительно сузилась. Однако дело усугубилось двумя дезориентирующими изменениями в раскладе сил.
В середине 1990-х «здравомыслящие националисты» в России опасались «морального унижения» со стороны «однополярного» Запада. В настоящее время, если учесть энергетическую зависимость, именно Запад оказался в положении слабого партнера: его позиции подрывает также динамика развития событий на Ближнем Востоке и в Азии.
Реакция России на политику Запада свидетельствует не только о разных ценностных ориентирах -- она говорит также об утрате уважения. Москва хочет донести до западных стран, что она заслужила право быть своекорыстной и ей нет дела до того, как ее воспринимают другие.
Существует еще одна параллель. Глубина, масштабы и продолжительность «холодной войны» не были неизбежными. Страх, невежество и отсутствие какого-либо сочувствия в сочетании с реальными, неразрешимыми противоречиями создавали гораздо худший синергетический эффект, чем простая сумма слагаемых. Вместо того чтобы медленно развивать политический процесс, стороны бросались из одной крайности в другую, не зная, чего можно ждать друг от друга, а почва уходила из-под ног. Сегодня налицо все те же опасности.
Наверно, русским можно простить то, что они их не видят. Совершенно очевидно, что западные энергетические компании будут инвестировать в Россию на любых условиях, поскольку это сулит им баснословные прибыли. Всем очевидно, что ЕС легко расколоть. Даже если бы укол морального адреналина внезапно изменил это положение, долгие годы уйдут на то, чтобы выправить энергетический баланс и лишить Кремль возможности использовать энергетику в качестве мощного геополитического рычага. Россиян можно также простить за то, что они думают, будто все это служит нашему благу (учитывая прежнюю спесь и излишества демократического проекта).
Но это еще не полная картина. Образ России в глазах европейцев меняется, и виной тому не столько успехи Москвы, сколько ее поведение на международной арене. В 1990-х годах аргумент в пользу того, что Россию нужно умиротворять за счет интересов других, обосновывался тем, что все идет нормально. Сегодня это оправдывают тем, что все идет очень плохо. Но данный довод не выдерживает критики. В условиях зреющего антагонизма возрастает опасность того, что «исключение России» перестает быть сдерживающим фактором в политике и становится одной из ее целей. Когда меняются парадигмы, как правило, меняется и поведение.
России предстоит решить, как она будет на это реагировать. Она может и дальше негодовать и заключать сепаратные сделки за спиной у партнеров либо трезво оценить, что потеряет, если утратит инстинкт сотрудничества. Стратегия роста, опирающаяся на поставки энергоносителей по высоким ценам, способна помочь создать диверсифицированную, современную экономику, но это не гарантировано. Переменных и рисков гораздо больше, чем кажется сегодня.
Какие дивиденды извлечет Россия, если Запад решит, что подобное предпринимательство угрожает его интересам? Неужели кто-то всерьез полагает, что, потерпев некоторые неудачи, Запад не сможет скорректировать свои действия и восстановить позиции?
Каковы итоги политики «разделяй и властвуй», проводившейся Россией на территории бывшего Советского Союза в последние 17 лет? Прочные добрососедские отношения, преодоление разобщенности или раскол и безвластие?
Какое-то время боязнь испортить отношения с Москвой может удерживать Украину и Грузию от вступления в НАТО, но долго ли это продлится? Если в результате Россия получит озлобленных соседей и враждебную НАТО, кто окажется в худшем положении?
А кто выиграет, если продолжатся расползание ядерных технологий и рост организованной преступности, если усугубится деградация окружающей среды, а религиозные фанатики, враждебные современному прогрессу и цивилизации и ищущие не общих точек соприкосновения, а односторонних преимуществ, продолжат опутывать мир сетями террора?
Иллюзии привели нас туда, где мы сейчас находимся. Возмущение -- плохой союзник, поскольку мешает возрождению реализма и трезвого расчета.
Джеймс Шерр -- научный сотрудник Группы передовых исследований и оценки при Оборонной академии Великобритании. Данная статья основана на монографии, опубликованной Оборонной академией в январе 2008 года. Автор выражает исключительно собственную точку зрения, которая может не совпадать с позицией и политикой правительства Великобритании.
Полностью статью читайте в журнале «Россия в глобальной политике».
Джеймс ШЕРР

