 |
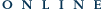 |
|
N°48, 24 марта 2008 |
 |
ИД "Время" |
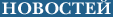 |
 |
 |
 |
Храм и мастерская
Фестиваль «Мариинский» предпринял ревизию главного балета
Понятное дело, что «Лебединое озеро», ЛО, Swan Lake, -- давно никакой не балет. Это произведение Чайковского -- Петипа -- Иванова за 113 лет своего существования сначала поднялось до культового статуса, а потом, как любой предмет (масс) культа, превратилось в самопародию, разошлось на поговорки, на анекдоты, на шоколад «Вдохновение», и в культсознании обывателя Танец маленьких лебедей хранится в том же отсеке, что и, прости господи, поручик Ржевский.
Одна из стратегий фестиваля -- соединять в обычных репертуарных спектаклях приглашенных солистов со своими -- на этот раз радикализировалась до предела, что придало всей затее, безусловно, концептуальный смысл. Мариинский театр дал подряд шесть «Лебединых озер» с разными исполнителями главных партий. Предоставив тем самым критикам и балетоманам возможность не только получить авгурское удовольствие сравнения, но и приобщиться к производственной жизни труппы, которой приходится на гастролях танцевать ЛО десятками кряду.
Кроме того, для обывателя ведь «ходить на балет» означает ходить прежде всего на этот балет, и он, а вслед за ним любые руководители, импресарио и т.д. как бы заявляют: «Не надо ничего этого вашего, дайте нам «Лебединое озеро»!» «Хотели? -- словно говорят устроители предпринятой акции. -- Получайте! Вам хватит?»
И еще один месседж можно предположить. В элегантно (хоть и с ошибками) изданном буклете галерея портретов великих исполнительниц главной партии, начиная с первой, Пьерины Леньяни, и дальше Уланова, Семенова, Шелест... Вот вы, нынешние, -- нутка! -- слышится провокативный голосок.
Что ж, посмотрим, насколько удалось превратить эту мастерскую по изготовлению сванлэйков в тот самый храм, каковым Станиславский заповедал быть театру, сделались ли пресные печенюшки и сладенькое винцо телом и кровью Бога.
Мой отчет неполон -- обстоятельства не позволили быть на первом спектакле с Дианой Вишневой. На следующий день по кулуарам порхали разные оценки, от «спорно, но интересно» до «она прекрасная балерина, но ей не надо этого танцевать». В любом случае нельзя не радоваться: содержательная полемика вокруг ее работ доказывает, что Вишнева остается живым творческим организмом.
Эстафету приняла Джиллиан Мерфи из American Ballet Theatre, ее партнером был мариинский солист Андриан Фадеев. Они категорически ушли от привычного алгоритма этого спектакля, когда танцовщик -- средство поддержки, а балерина -- ее предмет. Между ними возникла пресловутая «химия», искренность и правда взаимоотношений, и хореография, которая, кажется, уже выдолбила лунку в мозгах артистов и зрителей, вдруг задышала поэзией, вернула содержание, утраченное под жирными слоями балетной рутины. Мерфи наполнила свою Одетту чеховско-левитановскими интонациями, пластически проявив внутреннее родство музыки Чайковского, у которого веселье печально, а страдание изящно, с этой линией русского искусства. Ее движения как бы окружены дымкой, и с таким странным сфумато контрастировала отчетливость лепки Одиллии: разница между двумя женщинами в том, что у одной есть душа, а у другой нет.
Доморощенные знатоки зашипели: мол, данные у заезжей солистки совсем нехороши. Да, они далеки от совершенства -- ну и что? Совершенное тело сплошь и рядом служит для качественного занятия физкультурой (и для самодемонстрации, конечно), а хоть бы и несовершенное становится инструментом танца.
Андриан Фадеев -- высококлассный классический танцовщик, но он притом выходит на сцену не пируэты крутить и кабриоли прыгать, а что-то нам сообщить. Его Зигфрид -- романтик, хоть и современный юноша: все вроде у этого принца о'кей, однако благополучно жить ему как-то... шероховато. Неудобно цитировать хрестоматийные тютчевские строчки, но точнее слов не подберу: «О, сердце, полное тревоги,/ О, как ты бьешься на пороге/ Как бы двойного бытия!..»
Данила Корсунцев и Игорь Колб в этой партии представляют собой хорошо отлаженные функции по осуществлению хореографического текста, с той разницей, что первый хорош собой, а второй совсем напротив.
Хотя опять-таки: ну и что? Викторию Терешкину тоже не назовешь красавицей. А прекрасной признаешь, с легким и радостным сердцем.
Но прежде Терешкиной явилась Мария Александрова из Большого театра.
Мария Александрова собой очень даже. И работает она весьма профессионально. И одно лишь чуток мешает полюбить ее Одетту: сквозь хрупкую пачку и нежные перышки девушки-лебедя будто проглядывает деловой костюм с вузовским значком на лацкане. Она так впечатывает действительно красивые позы, будто говорит: «Я что, плохо танцую?» -- «Нет-нет, что вы». -- «То-то же. Смотри у меня!»
У Виктории Терешкиной за семь лет в Мариинском театре сложилась репутация виртуозки. Заслуженная -- в Баланчине, в Форсайте она демонстрирует технику фантастическую. Но в нынешнем «Лебедином озере» она поднялась до невидимости техники. Линии ее танца графичны, четки и притом певучи, кантиленны. И хрестоматийные места партитуры наполняются таинственным трепетом, заставляя почувствовать, что ведь и в этой знакомой до оскомины музыке на самом деле немало таинственного.
Терешкина свободна и умна, она вольно полнит текст смыслом. Например, по сюжету (ежели кто забыл) освободить королеву лебедей от злых чар может лишь любовь, в каковой Зигфрид и клянется -- традиционным балетным способом: воздев вверх два пальца. Тут Одетта прикасается к его поднятой руке и кладет принцу голову на грудь. Обычно это трактуют как доверие или даже благодарность. А Терешкина почти останавливает жест обещания: ах, не клянись -- не может же быть верным такой красивый мальчик.
В свое время одно из прозрений Ульяны Лопаткиной состояло в понимании, что Одетта-Одиллия -- одно существо, ее Одетта знала в себе Одиллию, предчувствовала, что наступит миг рокового превращения, предотвратить которое она не властна. У Терешкиной другое: ее злая, счастливая, бравурная Одиллия как бы отвечает побежденной Одетте, своей противоположности: правильно ты опасалась, милочка!
Зигфридом в тот вечер стал Анхел Корейя, principal American Ballet Theatre. У него, как и у Джиллиан Мерфи, есть редко встречающееся у русских танцовщиков качество -- непрерывность внутренней жизни. Рассказываемая им история движется не толчками от вариации к вариации (впрочем, у Зигфрида она вообще одна на весь балет), у него на сцене нет пустых мест. А уж когда наконец доходит до вариации, матовое свечение, которым Анхел Корейя полон с первого выхода, разгорается до настоящего блеска: еще одна редкость -- ему нравится танцевать. Он получает удовольствие не от того, что удалось сделать эти жете и туры в воздухе (как часто бывает), а от процесса.
Наслаждение танцем дано и Тамаре Рохо (London Royal Ballet). Поставленный Львом Ивановым протяжный лебединый рисунок все-таки требует несколько иных пропорций, более длинных рук и ног. Но уж когда пришла пора виртуозничать -- в вариации Одиллии, любители балетных трюков не остались без сладкого. Да какого! Компактное тело Рохо творило чудеса: она сделала два фуэте, а потом скрутила пять (!) туров, тут зал просто не поверил своим глазам. Однако пришлось поверить -- поскольку маленькая испанка повторила фокус-покус несколько раз, доведя публику буквально до исступления.
Зато Ульяне Лопаткиной для этого достаточно всего лишь выйти на сцену. В дни ее спектаклей в театре, ясное дело, не балерина выступает, а зритель смотрит, но происходит акт отправления культа Лопаткиной. Однако ежели говорить не о религиозных переживаниях, а о художественных, их не было. (Возможно, с заявленным Роберто Болле из La Scala сложилось бы иначе, но он не приехал, его заменил вполне дежурный Евгений Иванченко.)
Балерина прямо-таки обескуражила внутренней опустошенностью. Партия -- ее коронная, она превосходно сделана, предельно нюансирована, каждая поза, каждый микрожест доведены до совершенства. Но эта поразительной красоты оболочка не содержала ничего. Там, где прежде движения наполнялись загадочной глубиной, там, где непостижимым образом в теле, в танце выражалась «тройная формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность» (Набоков), теперь выражается... Увы, ничего не выражается.
Мы не вправе от художника, рассказывавшего о переживании бытия как трагическом процессе, когда его мироощущение (разумеется, проявленное в искусстве, прочее -- не дело критики) изменилось, требовать возврата. Такое требование было бы форменной глупостью. Мы всего лишь свидетели того, как Ульяна Лопаткина твердыми па сходит с ненадежного и, главное, неведомо куда плывущего парохода современности на сухую землю без времени. Если волшебная сила оставляет выдающихся творцов, остается надеяться и молиться, чтобы не навсегда.
Подведем итог.
За время фестиваля корпорация Swanlike произвела два одушевленных продукта. Для мумифицированного ЛО это очень много. Мои поздравления.
Дмитрий ЦИЛИКИН, Санкт-Петербург

