 |
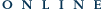 |
|
N°68, 18 апреля 2007 |
 |
ИД "Время" |
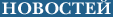 |
 |
 |
 |
Поэт -- Чухонцев
Олег Чухонцев стал третьим -- после Александра Кушнера (2005) и Олеси Николаевой (2006) -- лауреатом национальной литературной премии «Поэт». Мог бы стать первым или вторым, с меньшей вероятностью -- четвертым или пятым, но едва ли более «поздним». Дело тут не в составе жюри, где трудятся достаточно разномыслящие критики и историки словесности (Ирина Роднянская, Дмитрий Бак, Николай Богомолов, Яков Гордин, Александр Лавров, Самуил Лурье, Владимир Новиков, Сергей Чупринин и ваш обозреватель) и поэты, уже удостоившиеся престижной награды (таким образом, ежегодно коллегия прирастает одним судьей). Почти уверен, если бы премией «Поэт» ведала другая критико-филологическая команда, проблема Чухонцева разрешилась бы точно так же. Годом раньше, годом позже, но в группу «первых» лауреатов он войти должен был при любой погоде. Характерно, что год назад, когда решение жюри отозвалось довольно бурным выплеском отрицательных эмоций, имя «обойденного» Чухонцева вспоминалось едва ли чаще всех прочих.
Чухонцев никогда не был тем, кого в старину называли «центральными фигурами», а теперь именуют «культовыми персонажами», но его значимое присутствие в русской поэзии ощущалось как непреложный факт, по крайней мере, с середины шестидесятых. Его скупо печатали; после появившегося в «Юности» крамольного «Повествования о Курбском» на несколько лет вовсе «отменили» (дозволив, впрочем, публиковать переводы); первая тоненькая, жестко обкорнанная книжица (с горьким и внятным названием «Из трех тетрадей») увидела свет накануне сорокалетия автора (1976)... Да и дальше -- вплоть до перестроечного, поневоле приправленного политикой, «реабилитанса» -- обычному читателю поэтический корпус Чухонцева был доступен далеко не в полной мере. Но -- шлюсь на собственный опыт -- всякое стихотворение, чудом досягнувшее «законного» тиснения или вынырнувшее самиздатским листком, било прямо в душу. То были стихи предельно современные -- и обращенные в вечность, точно свидетельствующие о нашем «здесь и сейчас», но отнюдь в них не замыкающиеся, резко отменяющие -- как и надлежит истинной поэзии -- лживо-тоскливые антитезы «гражданственности» и «интимности», «традиционализма» и «новаторства», «почвенности» и «всемирности». Думаю, никто с такой остротой не сказал о муке издевательски ласковой и изуверски подлой несвободы «вегетарианских» времен, как Чухонцев в диптихе «Похмелья», поэме «Однофамилец», стихотворении («в известном роде») «Поэт и редактор», «Прощанье со старыми тетрадями...», «Двойнике», где, случайно увидев чистильщика сапог, молча гордящегося своим сходством со Сталиным и прозрев его сталинские кровавые мечтания, поэт выдохнул: Как непосильно быть самим собой./ И он, и я -- мы в сущности в подполье,/ но ведь нельзя же лепестками внутрь/ цвести -- или плоды нести в бутоне!/ Как непосильно жить. Мы двойники/ убийц и жертв. Но мы живем. Кого же/ в тени платана тень маньяка ждет/ и шевелит знакомыми усами?/ Не все ль равно, молчи. И ты был с ним?../ И я, и он -- и море нам свидетель./ Ну что ж, еще волна, еще удар -- / и радуга соленая, и брызги!..
Глубоко прочувствовав трагедию-фарс «двойников» и «однофамильцев», Чухонцев избежал участи чьего-либо аналога, настоятельно навязывавшуюся ему «контекстом» -- как политическим, так и «литературным». Он оставался и остается собой, ибо, подобно своему Ивику, в самом темном лесу не только слышит вороний грай и угадывает скорый смертельный удар угрюмого злодея, но и чувствует воздух иного бытия.
Чаять просвет цветущий иного бытия и истово любить земную юдоль, жить жизнью ее грешных детей, сострадать их недоле и угадывать в них небесные начала, знать, что лишь здесь будут звучать твои (и все прочие) песни, -- удел поэта. В одном из сравнительно недавних стихотворений Чухонцев сказал об этом с предельной искренностью:
Ах, не этой я земли окаянской,/ не из этой я юдоли басурманской,/ а из той я страны палестинской,/ из нечаемой страны херувимской. // Я худой был на земле богомолец,/ скоморошьих перезвон колоколец/ больше звона я любил колокольных,/ не молитвы сотворял, а погудки. // Есть на белой горе белый город,/ окруженный раскаленными песками./ Есть в том городе храм златоглавый,/ а внутри прохладная пещера. // Я пойду туда, неслух, повиниться,/ перед храмом в пыль-песок повалиться,/ перед храмом, перед самым порогом:/ не суди меня, Господь, судом строгим, // а суди, Господь, судом милосердым,/ как разбойника прости и помилуй,/ и порог я перейду Твово храма/ и поставлю две свечи у пещеры.
Так погудка превращается в молитву, оставаясь погудкой. Премию можно было вручить чуть раньше или чуть позже. К сути это не относится; суть в том, что Олег Чухонцев -- Поэт.
Андрей НЕМЗЕР

