 |
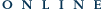 |
|
N°213, 20 ноября 2006 |
 |
ИД "Время" |
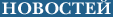 |
 |
 |
 |
Осуждена -- спасена
«Фауст» Эймунтаса Някрошюса в Москве
Первое представление состоялось в четверг. Оно никак не оправдывало восторженных кликов, раздавшихся в октябре, после того как «эскиз спектакля» был показан в Петербурге на «Балтийском доме». «...Этому «Фаусту» суждено войти в историю мирового театра» (Глеб Ситковский). «...Грандиозное театральное сочинение, абсолютно адекватное гетевской громаде» (Марина Зайонц). «...Он великий современный литовский актер. А в этой роли играет невозможное...» (Елена Герусова о Владасе Багдонасе). Да полноте вам. То, что видела московская публика, было хорошо продуманным, но маловыразительным и утомляющим (почти четыре часа, из которых два ушло на «разогрев») сценическим сочинением. С метафорами-изюминками в плохо пропеченном тесте. С Багдонасом, который изнемогал от весомости слов, произносимых доктором Фаустом. С хорошей, но избыточно нервной актрисой Елжбиетой Латенайте (Гретхен). Вряд ли действие сбивалось -- Някрошюс строит роли и мизансцены очень твердо, а тут еще все время звучит музыка Фаустуса Латенаса, диктуя ритм сценической жизни, -- все шло в пределах правил, но с какой натугой, с какой неохотой!
В антрактах со спектакля сбегали. Не с демонстративным возмущением «что-за-бред-тоже-мне-театр-называется», каковое авангардисту слаще любых оваций (вспомним, как часто Някрошюса пытались причислить к авангардистам, хотя он не вмещается в клановое стойбище), а виновато. Да, он гений, да, мы его любим -- но ведь так скучно...
Несчастливое представление оказалось, впрочем, ценным подарком для тех критиков (для меня, в частности), которых могущественный театр Някрошюса завораживает, заставляет забывать про свои обязанности, возвращает к простодушию. Мы захлопываем блокноты: препарировать сценическую ткань будем завтра, а сейчас -- счастливое приключение и чудо, сиюминутному анализу не подлежащее. Так было с шекспировской трилогией, «Временами года Донелайтиса», «Песнью Песней»; «Фауста» же можно было рассматривать, обдумывая по ходу действия, как что сделано режиссером. Зачем сделано. Радости никакой, но пользы много.
Вкратце изложу выводы, в которых, думаю, нет ничего принципиально нового. В последних спектаклях Някрошюса все меньше и меньше места занимает фабула, ход событий, связь причин и следствий. Он вычеркивает из «Фауста» жанровые сцены: пирушку с буршами, поединок с Валентином (брата Гретхен играет Кяститус Якштас), разбитную Марту и злоязычную Лизхен -- поэзия, она же метафизика, очищается от всего лишнего, не делаясь, однако, отвлеченным умствованием.
Театрам, изъясняющимся на языке символов (символы не исчерпываются до конца никаким толкованием), непозволительно отрешаться от плоти вещей, от их фактуры. Эймунтас Някрошюс и его сын Марюс, ставший постоянным художником театра Meno Fortas, менее всего склонны к абстракциям. Они влюблены в природу, в материю и очень понимают Фауста, молящегося «пресветлому духу»: «Ты отдал в пользованье мне природу,/ Дал силу восхищаться ей». Отметим чудесное слово «пользованье»: оно подразумевает нацеленность и хваткость. Перипетиями можно пренебречь.
Далее, «лес символов» в «Фаусте», как и в двух предыдущих спектаклях Някрошюса, есть именно «лес» -- он децентрализован. Здесь не найти главного символического объекта, каким были, к примеру, каменное небо в «Макбете» или обезноженный рояль с конторскими счетами на пюпитре в «Моцарте и Сальери». Знак первого действия (Пролог на небесах и Пасхальная ночь Фауста) -- качели с плечами неравной длины: на длинном сидит ссутулившийся Бог (Повилас Будрис), за короткое плечо цепляется хлипкий, вертлявый чертик, адъютант Мефистофеля (превосходная работа Вайдаса Вилюса). Бог его брезгливо стряхивает, потом берется за конец тяжелого бруса и идет по кругу, как усталая мельничная лошадь. Качели превращаются в ворот: Бог, изнемогая, вращает Землю, падает на колени, кладет брус себе на поясницу, ползет на четвереньках. Отметим подробность: когда Мефистофель (Сальвиюс Трепулис) захочет сделать пробный, отчасти издевательский кружок, он перехватит у Бога брус и пробежится легко, без малейшей натуги -- для него это не работа, а забава. (В скобках можно вспомнить мандельштамовское: «Он безносой канителью/ Правит, душу веселя,/ Чтоб вертелась каруселью/ Кисло-сладкая земля» -- князь мира сего, еще бы!) Отметим также: Бог и Мефистофель у Гете сосуществуют не по христианским, а по ветхозаветным (как в «Книге Иова») законам -- они соперники, но не заклятые враги. Някрошюс объяснил это с чудесной выразительностью -- у появившегося беса Бог-труженик, не могущий оторваться от дела, кивком головы просит: почеши мне спину -- там, между лопатками... Такие мелочи драгоценны.
Знак второго действия (разговоры Фауста с Вагнером и договор с Мефистофелем) -- огромная, метра в три с лишним, берцовая кость, белеющая в середине сцены. Бес, как помним, является Фаусту бездомным пуделем: где собачка, там и косточка, понятно. Однако поймем и то, что дочиста обглоданная кость -- это все, что Мефистофель бросит Фаусту в обмен на бессмертную душу. Иллюзия свободы, обернувшейся никчемностью; иллюзия любви, обернувшейся совращением и постыдством. Если искать в спектакле Някрошюса мораль (что, может быть, не лишено смысла), она будет строга и бесхитростна: сделки с чертом всегда убыточны.
Режиссерской партитурой во втором действии можно только восхищаться. Някрошюс -- великий мастер сценической метафоры, неутомимый изобретатель невиданных знаков: они поражают воображение, но восторг вызывает их взаимообусловленность, соподчиненность. Второе действие -- краткая история духовного падения, история о том, как мудрый и могучий, но не умеющий останавливать себя человек становится игрушкой беса. Отмечена каждая веха. Вот Фауст расфуфыривается перед Вагнером (Владас Багдонас очень точен: его Фауст тоскует, презирает собеседника, но все же не преминет покрасоваться), вот он берет в дом крайне подозрительного пса, вот пес превращается в демона. Опять чудесная деталь: Мефистофель-Трепулис говорит первые фразы сдавленным, сиплым голосом, горло ему сжимает тугая повязка (бывший ошейник); Фауст ее разматывает, оказывая бесу далеко не последнюю услугу. После этого у Мефистофеля все пойдет как по маслу -- с единственной заминкой. Подписать договор кровью («Кровь, надо знать, совсем особый сок») Фаусту все-таки страшно.
У тривиально мыслящего режиссера Мефистофель скорее всего достал бы из-за пазухи или из воздуха какой-нибудь пергаментный свиток; у Някрошюса все проще и страшнее. Бесы берут тонкий канат, завязывают посередине узел -- вот договор, давай подписывай: ткни сюда чем-нибудь, и готово. Фауст медлит. Жестом: отойдите, при вас не хочу. Бесы послушно отбегают в глубь сцены, но сладострастно подглядывают: ну, уже? Фауст, жестом: дальше. Бесы у задника, та же игра: ну, давай! В ту секунду, когда Фауст «подписывает» (совершается непоправимое, и игра Багдонаса обязывает это понять), Мефистофель испытывает нечто вроде оргазма. Сцена длится около трех минут, и они незабываемы.
Но все же лучшая сцена второго действия (думаю, и спектакля в целом) -- та, где Фауст начинает переводить Евангелие от Иоанна. Он в центре, перед ним несколько раскрытых книг. «В начале было Слово». Багдонас, произнеся это, медленно и сосредоточенно наклоняется (он похож на штангиста, берущегося за снаряд), уверенным жестом словно бы зачерпывает фразу, держит ее, невероятно тяжелую, в пригоршнях, рассматривает, обдумывает: «...С первых строк/ Загадка. Так ли понял я намек?» Потом переносит и бережно опускает в другую книгу, справа. Новый вариант перевода-толкования -- «В начале Мысль была» -- достанется новой книге, то же будет и с «Силой», и с «Делом».
А кругом снуют бессловесные черные духи, они выносят книжные стопы, разбирают, раскладывают вокруг Фауста, принимаются обмахивать друг друга двуручными опахалами -- и воздух порывами летит на распахнутые страницы: справа, слева, сзади. Шелест страниц так громок, что его уже нельзя назвать шелестом. Трепетные книги разговаривают меж собою, не нуждаясь в услугах переводчика: печатное слово сделалось живым. Какая простота приемов и какая густота смыслов: делать такие вещи умеет только Някрошюс.
Знак третьего действия отсутствует. Можно, конечно, счесть «знаком» то, что сцена заполнилась зловещими усеченными конусами: они разнообразно изукрашены, отливают металлом и иногда начинают куриться наподобие сопок. Поскольку Марюс Някрошюс сделал в стенках небольшие окошечки, можно решить, что это не сопки, а юрты, но на самом деле перед нами нечто среднее между «природным» и «рукотворным» -- нечто инаковое (если вспомнить вторую часть «Фауста» -- «лемурье»). В первом действии этих конусов было четыре, во втором шесть, теперь -- десять. Один из них прячет в себе Маргариту, другой -- ларец с драгоценностями, который Фауст преподнесет будущей любовнице и жертве.
16 ноября заключительное действие казалось нагромождением режиссерских и актерских упущений. Спектакль работал на холостом ходу. В «Вальпургиевой ночи» Фауст и Мефистофель, что спокойно сидели на стульях по краям сцены и обсуждали полет на Брокен («Скорей за что-нибудь схватись,/ А то сорвешься с кручи вниз»), до боли напоминали воинственных негритосов из «Вампуки» («Бежим! Скорей бежим! Сейчас мы их догоним!»). Елжбиета Латенайте усердствовала так, что после спектакля обсуждалось: не является ли Гретхен по замыслу режиссера ведьмачкой и прислужницей Мефистофеля? Не она ли собственной персоной является на шабаше (напомним: у Гете в облике Маргариты предстает горгона Медуза) и т.д. 17-го все встало на места и завершилось закономерной овацией.
Латенайте работала умно и собранно. Она сдерживала незаурядный актерский темперамент: это не мешало увидеть в героине девическую диковатость, распаленную чувственность и, что главное, готовность жить, «кренясь и не ища спасенья» (Ходасевич). Обезумевшую Гретхен, ждущую казни, Латенайте сыграла попросту замечательно: вровень с Багдонасом, который (подтверждено 17-м числом) действительно является великим литовским актером. Это следует подчеркнуть особо, поскольку в последней сцене спектакля Фаусту отводится роль страдательная, Маргарите -- деятельная.
«Где растерял ты страсть былую?/ Ты мой был. Кто тебя украл?» -- последние жалобы Маргариты режиссер, едва ли не единственный раз в спектакле, подкрепляет иллюстрирующими жестами (основной источник поэтической энергии в «Фаусте» Някрошюса -- напряжение между словесными и физическими действиями, неожиданными друг для друга). Гретхен приникает к груди бывшего любовника, потом быстро-быстро стучится кончиками пальцев: здесь же должно биться сердце. Снова слушает, снова ничего не слышит, снова говорит жалкие, прекрасные слова. А бес уже торопит своего подопечного.
В финале Мефистофель опять встретится и заспорит с Богом: «-- Она/ Осуждена на муки! -- Спасена!». «Осуждена -- спасена... Осуждена -- спасена...» -- это пререкание будет продолжаться вплоть до закрытия занавеса.
Итак: отсутствие интереса к фабуле; децентрализация символического ряда; поиск необычных столкновений слова и жеста; повтор мизансцены или физического действия, имеющий значение рифмы, -- вот главные ингредиенты поэтического театра Някрошюса. О том, что все это скреплено режиссерской гениальностью, можно и не упоминать.
Александр СОКОЛЯНСКИЙ

