 |
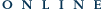 |
|
N°5, 17 января 2006 |
 |
ИД "Время" |
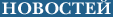 |
 |
 |
 |
Французские редкости
Бенжамен Констан де Ребек (1767--1830) был глубоким политическим мыслителем, автором религиозно-философских трактатов и будоражащих общественное мнение брошюр на злободневные темы, переводчиком Шиллерова «Валленштейна» и пропагандистом германской («романтической») словесности во Франции, кумиром тогдашних либералов (не токмо соотечественников), противником Наполеона (который не всякого удостаивал враждой) и его доверенным лицом в пору Ста дней (Констану вернувшийся с острова Эльба император поручил составить Дополнительный акт к конституции), в конце концов, человеком, триумфально завершившим политическую карьеру (в разгар июльской революции 1830 года Констан сопровождает в парижскую ратушу герцога Орлеанского, будущего короля Луи-Филиппа; через полгода, в декабре, похороны Констана пройдут при огромном скоплении народа) и оставшимся (для серьезных историков) классиком европейского либерализма. Все так, но нынешний интеллектуал знает о Констане немного: он любовник госпожи де Сталь и автор маленького романа «Адольф». При этом союз «и» нередко читается как «а потому».
Многолетняя изматывающая связь с законодательницей европейских интеллектуальных, политических и поведенческих мод действительно в «Адольфе» сказалась. Впрочем, и автор, обнародовавший свой шедевр лишь через десять лет по его завершении (1816), публично негодовал на намеки критиков, и историки указывали на сильные различия меж Элеонорой и Адольфом, с одной стороны, и Жерменой де Сталь и Констаном -- с другой. Дело в том, что на долю сочинителя «Адольфа» (изощренного психологического исследования феномена нелюбви) выпало отнюдь не одно прихотливое «заблуждение чувства». Влюбчивый «от ума» и толерантный Констан постоянно оказывался то мучителем, то мучеником. Эти двусмысленные, но, похоже, органически необходимые Констану умственно-чувственные приключения и легли в основу его прозы, выросшей из дневниковых и эпистолярных опытов самоанализа и -- исключая «Адольфа» -- при жизни автора известной лишь крайне ограниченной аудитории. Даже во Франции она стала известна только в ХХ веке. В веке ХХI она стала достоянием русского читателя. В составленную и тщательно откомментированную Верой Мильчиной книгу «Проза о любви» (М., «О.Г.И.») вошли «автобиография в форме дневника» «Амелия и Жермена» (Констан разрывается между «правильной» скучноватой дурнушкой, на которой можно бы и жениться, и блистательной де Сталь, уже порядком его утомившей), «Письмо о Жюли» (многолетняя конфидентка Констана, некогда испытывавшая к нему сильные чувства да и вообще не обделенная «романическими» сюжетами), «Сесиль» (история любви к «кроткой» героине, соперницей которой выступает все та же роковая де Сталь), мемуар «Моя жизнь» и комплекс текстов, связанных с внезапно вспыхнувшей страстью немолодого Констана к его давней (и тоже не первой молодости) приятельнице мадам Рекамье, хозяйке прославленного салона, пленявшей многих тогдашних умников. Все эти сочинения переведены Мильчиной, а вот «Адольф» дан в старом переложении князя Вяземского (1831), том самом, что было посвящено Пушкину и восторженно им приветствовалось.
Читая энциклопедию любви (непременно с подробными и «картинными» толкованиями создателя русской книги!), осознаешь, сколь не новы те парадоксы утомленного (и пытающегося воспламениться) сознания, что вот уже два века приурочиваются к «текущему моменту». И объясняются очередной «потерянностью» очередного обреченного бездействию поколения. Констан (вообще-то рьяно игравший во все игры, включая азартные) тоже сетовал на свою слабость и могучую волю Наполеона, выкинувшего его из большой политики. Самоуглубленность терпимого, ироничного и недовольного собой меланхолика (один «романтизм») как нельзя лучше контрастирует с самоупоением и энергией «мужа судьбы», признающего лишь собственные законы и презрительно благотворящего человечество (другой «романтизм»). Ставший императором лейтенант Буонапарте, разумеется, не сводим к «наполеоновскому мифу», воздвигнутому тщанием всей мыслящей Европы (недруги узурпатора тут работали не хуже, чем обожатели нового Цезаря), но и без романтизирующих фейерверков его тоже не увидишь. Впервые явленная по-русски биография Наполеона работы будущего автора «Трех мушкетеров» (1840; гасконец чертом из табакерки выпрыгнет лишь в 1844-м) -- книга без малейшего привкуса объективности. Но издание ее (М., «Захаров»; перевод Ольги Вайнер) радует. Фанфары так фанфары, величие так величие, Цезарь так всех Александров переплюнет! Как бы протокольный слог (деяния говорят за себя!) чередуется с взрывами безоговорочного риторического восторга. Дюма следует заветам героя -- не случайно изрядную часть повествования занимают цитаты из громокипящих Наполеоновых бюллетеней, его эпистолярия и воспоминаний. Вот как живописуется первое отречение.
«Эта декларация оставила ему только две возможности:
Уйти из жизни, как Ганнибал.
Отречься от трона, как Сулла.
Говорят, он попытался исполнить первое, но яд Кабаниса оказался бессилен.
Тогда он решился на второе и на клочке бумаги, ныне утерянном, начертал эти строки, самые важные из всех, какие, быть может, когда-либо выводила рука смертного:
«Поскольку союзнические державы объявили, что император Наполеон является единственным препятствием к восстановлению мира в Европе, император Наполеон, верный своей клятве, объявляет, что он отрекается, от своего имени и от имени своих наследников, от французского и итальянского трона, ибо нет такой личной жертвы -- даже жертвы собственной жизнью -- какой он не был бы готов принести ради Франции».
В течение года (пока не грянули Сто дней. -- А.Н.) мир казался пустым».
Каковы Кирджали! Что Наполеон (Бонапарт), что Александр (Дюма)! Куда тут Констану...
Но в том и дело, что новейшей европейской культуре были равно потребны оба мифа и воплощающие их знаковые фигуры. Не во Франции романтизм придумали (и Констан, и его венчанный соперник никогда не признали бы себя «романтиками»), но французская словесность, с ее чутьем на актуальность и веками наработанной элоквенцией, оказалась транслятором веяний эпохи даже для тех, кто с детства читал немцев и англичан в подлинниках.
Например, для русского поэта, которому посвящена книга почетного профессора Тартуского университета Ларисы Вольперт «Лермонтов и литература Франции (в царстве Гипотезы)» (Таллинн, Фонд эстонского языка). Подзаголовок выбран верно: документальных свидетельств о французских интересах Лермонтова немного (с Пушкиным, диалог которого с галльской традицией превосходно истолкован в давно известных работах Вольперт, не сравнить!). Дабы обнаружить сходства, требуются зоркость и толика воображения. Но исследователь умеет видеть «малые» факты и увлекательно их интерпретировать. В книге реконструируется «тайный» поэтический цикл, складывавшийся вокруг личности Шенье, идет речь об отголосках прозы Жака Казота и поэзии Альфреда де Виньи в «Демоне», истолковывается внимание Лермонтова к роману Альфонса Карра, в контексте «жоржсандизма» трактован характер баронессы Штраль («Маскарад»). Свежо говорится о типологическом родстве прозы Лермонтова и Стендаля, что позволяет автору предложить убедительную реконструкцию развязки недописанного романа «Княгиня Лиговская». Книга свидетельствует не только о лермонтовской включенности в бытие французской литературы начала XIX века, но и о тех -- общекультурных и сегодняшних -- смыслах, которые можно обрести в мнимо устаревших сочинениях времен минувших.
Андрей НЕМЗЕР

