 |
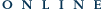 |
|
N°121, 08 июля 2005 |
 |
ИД "Время" |
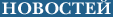 |
 |
 |
 |
Откуда пошли Георгиевичи
О романе Олега Зайончковского
Дебют Олега Зайончковского состоялся на традиционной «площадке молодняка» -- в №12 «Октября» (2003), украшенном зазывным слоганом «Новые имена». Дебют этот бездарно проспали все-все-все, включая автора этих строк. (До сих пор стыдно.) Можно сетовать на «обстоятельства места»: когда писателей выводят гуртом и предлагают дивиться их «молодости» (а заодно -- широтой редакторских открытий), вычленить достойного автора еще труднее, чем в обычном потоке. Можно кивать на «обстоятельства образа действия»: не худо бы предварить сильную дебютную публикацию сигналящей врезкой кого-нибудь из мэтров. (Но сколько раз эти самые мэтры впаривали нам третий сорт.) Можно печалиться об «обстоятельствах времени»: журнал вышел под самый Новый год, когда у литературных обозревателей крыша едет как по общечеловеческим причинам, так и от ярмарочно-премиально-итоговой колготы. Много что можно, но факт остается фактом: настоящего писателя проворонили вчистую.
Открыть Зайончковского выпало прошлогоднему букеровскому жюри -- роман «Сергеев и городок» (М., «О.Г.И.», 2004) появился в престижном шорт-листе и на прилавках одновременно. Эффект подпортила привычная дурь: бравая команда хроникеров премиально-тусовочного процесса в знакомом игриво-вальяжном стиле (Хлестаков+Городничий) сообщила публике не о книге (разумеется, нечитаной!), но о слесаре шляхетского рода, что живет в Подмосковье, пишет «обыкновенные» рассказы «про жизнь», а в букеровскую шестерку угодил дуриком. (Кто-то уточнял: вознесен лишь для того, чтобы оттеснить преславного Имярека -- конспирологию любят не одни политологи.) Правда, явились и другие суждения. Были одобрительные. В частности, писателя сравнивали с Шукшиным и Довлатовым, на каждого из коих Зайончковский похож примерно так же, как они друг на друга или, скажем, на Тургенева, -- похож тем, что писать умеет. Были и злобные. Интересные не банальным враньем (неумением читать), но зримым азартом: на «пустышку» так не реагируют. В результате Букера Зайончковский не стяжал, но из тени вышел. И не зря. «Октябрь» открыл 2005 год его отличной повестью «Люда» (о ней см. «Время новостей» от 25 января), «Сергеев и городок» попал в шорт-лист «Национального бестселлера» (хоть шерсти клок), а в аккурат к букеровскому длинному списку «О.Г.И.» выпустило роман «Петрович». Знакомый и не знакомый.
Именно фрагменты «Петровича» были тиснуты «Октябрем» полтора года назад. Но дело не в количественном приращении текста, а в его качественном изменении. Как и «Сергеев и городок», «Петрович» -- роман-пунктир, каждая глава которого хороша сама по себе, но целое неизмеримо больше частей. В «Сергееве...» тонкая и крепкая вязь вроде бы разрозненных мотивов, эпизодов, персонажей улавливалась не сразу и не всеми (как и смысловая многоплановость «прозрачного» повествования) -- в «Петровиче» она отчетливее, ибо укоренена в мощной традиции. Именно так, пунктирно и поэтически, с читательским праздником в каждом отдельном эпизоде и откровением финала, когда мозаика оборачивается монолитом, построены «Детство» Толстого и «Детские годы Багрова-внука» Аксакова, «Детство» Горького, «Детство Никиты» А.Н. Толстого, «Детство Люверс» Пастернака... Это и называется «память жанра».
Петрович -- мальчик (совсем малец в первой части, выпускник первого класса -- во второй, отрок -- в третьей, провалившийся абитуриент -- в четвертой). У него есть имя, но герой относится к нему настороженно. По именам зовутся взрослые: дед (Генрих), бабушка (Ирина), мама (Катя), отец (Петя). Имя Петровича мы узнаем в зачине второй части, когда он покидает царство счастливых снов -- буквально (утреннее пробуждение) и «метафизически». Постылым школьным языком (а ведь лето, каникулы!) мальчик пытается описать вдруг накренившуюся домашнюю реальность. Ту, что в первой части была счастливой и незыблемой. Не выдержал детсадовских измывательств -- забрали из ада («Не утерпел»). Не получил вымечтанный подарок -- обрел лучший («У железной дороги»). Испугался, когда мама задержалась в магазине, -- ложная тревога («Бросили?»). Испытал удар судьбы (приглянувшаяся девочка «кинула» сомнительного вздыхателя из чужого двора) -- почувствовал, что девочку любит и что любовь эта навсегда («Грабли для Петровича»). На эти грабли он будет наступать и во второй части («Штаб»), и в третьей («Годы чудесные» -- с дракой за любимою), а в четвертой, когда неприкаянный Петрович будет маяться в чужой Москве, Вероника приедет к нему -- чтобы больше не расставаться никогда (вечная любовь с первого взгляда -- скрытая главная тема «Сергеева и городка»). Но для того, чтобы обрести Веронику и выстроить свой дом, нужно прежде спасти дом отчий. Об этом -- вторая часть.
«Задано, скажем: «из трубы вытекает вода». А если труба засорилась -- что делать? Что делать, если Генрих не умеет починить трубу, а Петя ушел из семьи? Или: «мама мыла раму». А если ей не до рамы? Она приходит с работы, ложится и плачет... Или самое смешное: «Гоша кушал кашу». Да он в жизни не стал бы кушать никакую кашу, особенно рисовую! Кому знать, как не ему, ведь Гоша -- это он самый и есть, Георгий Петрович». Придется «кушать кашу». Придется быть Гошей -- зваться по имени, как взрослые. Придется искать отца. На чудесной -- если б не неотвязная мысль о пропавшем Пете -- «Рыбалке», куда Петровича взял фронтовой друг Генриха, в сосредоточенном одиночестве, в тот удивительный день, что прошел с «заместителем» отца (водителем «КрАЗа», которому понравился рассудительный мальчик), а закончился единственно нужной встречей. Мальчик увидел Петю из кабины, умолил дядю Толю остановить грузовик («А я-то хотел тебя усыновить...»), добежал до лавочки. «-- Здравствуй. -- Голос Петровича внезапно сел... Приве-ет... -- пробормотал он, и очки не скрыли его изумления. -- Ты что здесь делаешь? -- Я?.. Я гуляю. А ты? -- Петя ответил не сразу: -- Я тоже... Что будем делать? -- спросил Петя. Петрович пожал плечами: -- Не знаю... Давай куда-нибудь пойдем. -- И куда же ты предлагаешь? -- Петя грустно усмехнулся. -- Я предлагаю... -- Петрович наконец отважился дотронуться до его руки, -- я предлагаю -- домой».
В конце главы (и всей «сиротской» части) стоит не многоточие -- точка. Петя и Петрович пошли домой. Конечно, не мальчик вернул мир на круги своя. Но он этого хотел и сделал для того все, что мог. Потому что он -- Петрович. Сын Петра и Кати. Внук Ирины и Генриха. Продолжение Генрихова рода -- «фантастических» людей из «бывшей» жизни, чьи фотографии хранятся в фамильных альбомах, чьи невероятные истории всплывают в той же главе, где не мыслящего себя без работы деда ссылают на пенсию («Генрих»).
Дом и семья -- это крепость. Крепость не может отложиться от мира (если не в детский (с)ад , то в школу, институт, контору ходить придется), крепость не защищена от вражеских набегов -- реальных и символических. Начальные фразы романа открывают и его последний абзац: «О, сколько врагов себе нажил старый глупый СССР этой ежеутренней трансляцией гимна. Сколько теплых голых тел, сплетенных в собственных нежнейших союзах, содрогались в постелях при первых его раскатах...» Но! Однажды гимн оказался бессилен и против своей воли правдив -- он возвестил московской тете Тане о «союзе нерушимом» ее беспутного племянника и неведомой девицы («если вы полагаете, что я положу вас спать вместе, то вы ошибаетесь»). Они обманули славную тетушку и бесславный Союз. Они всю ночь решали только один вопрос, отлично зная ответ («-- Ты меня любишь? -- Да»). И потому, когда гимн заявил о себе, было поздно. «...Петрович с Вероникой спали сегодня так крепко, что ничего не слышали. Они спали и спали, покуда не взрезался горизонт за московскими домами и, лопнув, не залил небо и окна свежим золотым соком». Ровно ли через девять месяцев или несколько позже прирос наш мир Георгиевичем или Георгиевной, совершенно не важно. Важно, что это произошло. Наверняка. Хотя в «Петровиче» о том ничего не сказано.
Андрей НЕМЗЕР

