 |
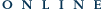 |
|
N°34, 01 марта 2005 |
 |
ИД "Время" |
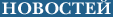 |
 |
 |
 |
Искусство принадлежать народу
Сегодня деятели культуры все чаще вспоминают советское время с ностальгией -- тогда, дескать, власть о художниках заботились, и культура была задачей общенародной. О том, каким именно способом власть заботилась о художниках и как складывались в те времена отношения государства с культурой, не плохо напомнить тем, кто забыл, и рассказать тем, кто не знает. Смешная и страшная картина складывается в воспоминаниях Игоря Черноуцана, отрывки из которых публикует «Время новостей». С 1951 по 1982 год он проработал в отделе культуры ЦК КПСС и был как раз из тех людей, кому очень многие были благодарны -- за разумные и добрые дела. Вот что писал о нем Даниил Гранин: «Все эти годы он, Игорь Черноуцан, был, наверное, самым надежным прибежищем для нас, ему несли свои обиды, невзгоды, с ним можно было поговорить по душам, высказать все, что наболело, посоветоваться. Шли, ехали прежде всего к нему -- от Шолохова и Фадеева, от Симонова и Твардовского до нас, молодых тогда Тендрякова, Сергея Орлова... Не так-то просто было заработать на этой должности в те трудные времена признательность людей, а главное -- репутацию хорошего человека, защитника, ревнителя справедливости... Ему удалось отстоять множество судеб, книг, фильмов, имен. Нелегкая это была обязанность -- докладывать начальникам, которые почти ничего не читали, судили, однако, непререкаемо, пользуясь всякого рода подсказками и наветами. И как ни бейся, приходилось выполнять и то, с чем не был согласен. Дорого обходился этот душевный разлад... Но теперь, оглядываясь на пережитое, понимаешь, что его самопожертвование оправдало себя».
Мы выбрали несколько историй, которые сегодня могут показаться анекдотичными, однако автор, рассказывая о своей повседневной работе, вовсе не ставил своей целью развлечь или посмешить публику. Просто сегодня все-таки очень многое изменилось.
"Хорошие произведения написали театры. Вот их и надо поощрять"
Со Сталиным я ни разу лично не беседовал, но весной 1952 года, когда на Политбюро обсуждались кандидаты, выдвинутые на Сталинскую премию, я около двух часов слушал его рассуждения о литературе. Комитет, возглавляемый Николаем Тихоновым, предварительно вносил в ЦК и правительство свои предложения. Затем следовали уточнения и предложения «с мест». Обычно дело сводилось к тому, что поступал дополнительный список, подписанный Чарквиани, первым секретарем ЦК КП Грузии и ближайшим приятелем Берии.
Так было и на этот раз. Воздавая хвалу мудрой политике Сталина, приведшей к расцвету грузинской культуры, Чарквиани сетовал на забывчивость комитета, упустившего два выдающихся произведения литературы. На этот раз среди «забытых» оказалась повесть Тины Донжошвили «Слава» и роман Белиашвили «Бесики».
Прочитав повесть Тины Донжошвили, я убедился, что это произведение слабое, ученическое, художественно беспомощное. Что касается романа Белиашвили, то тут дело обстояло сложнее. Действие написанного опытной рукой романа, относящееся к XVIII веку, развивалось таким образом, что во всех случаях, когда возникали сражения, русские войска или бежали с поля боя, или опаздывали, оставляя грузин наедине с врагами... Прочитав мое заключение, заведующий отделом Кружков панически перепугался: «Да ты понимаешь, что ты написал? Ведь Чарквиани друг Берии, и вопрос этот наверняка уже согласован со Сталиным!»
-- Если вы не согласны, давайте напишем сверху «Справка», а я подпишу ее своим именем как инструктор ЦК.
...Когда все расселись за квадратными столиками, за поперечным столом появились члены Политбюро, и как-то совершенно неожиданно, будто он вырос из стены, возник Сталин.
Первое, что поразило меня, -- обескураживающее несходство со всеми портретами. Это был сугубо незначительный и невзрачный человек, небольшого роста, с лицом, изъеденным оспой, и заметно пробивающейся лысиной. Говорил он долго, медленно расхаживая и тиская правой рукой потухшую трубку (левая рука висела плетью). Совершенно неожиданно и раздраженно вдруг заговорил о грузинах и о грузинской литературе: «Почему вновь и вновь, снова и снова грузины, -- с легким акцентом произнес он. -- Вот еще придумали -- русские бегут, а грузины одни остаются на поле боя. Совсем по Лермонтову, только совсем наоборот». При этих словах Кружков толкнул меня под столом ногой.
Далее Сталин перешел к литературе казанских татар -- совершенно неожиданно, так как их, насколько я помню, вообще не было в списке. «А вот, например, Ниджми и Буширов, -- говорил он (имея в виду, по-видимому, Наджми и Баширова), -- вы читали, товарищ Тихонов? А Фадеев?» Последовало испуганное молчание. «Хорошие произведения написали татары. Вот их и надо поощрять». Затем, после небольшой паузы, он перешел к другой теме.
«А почему, собственно, мы отмечаем только советских писателей и художников? Вот, например, вчера читал я произведение одного венгра. Очень хорошо рассуждает он о том, что от индивидуальных наделов надо переходить к коллективному хозяйству, и не только Ракоши хвалит, но и нашу страну добром поминает. Правильно думает товарищ».
На этом заседание закончилось, и через два дня нужно было представить на Политбюро новый окончательный список, куда включить и легко опознаваемых татар, и таинственного венгра. Я тут же запросил консультанта по венгерской литературе о том, какое наиболее значительное произведение вышло там за последние годы. Немного подумав, он назвал роман Ацела «Под солнцем свободы».
-- А о чем роман?
-- Об освобождении Венгрии Советской Армией.
-- И есть там крестьянин, ратующий за коллективизацию?
-- Там много крестьян. Наверняка есть и такой.
На другой день, вернувшись домой с сознанием благополучно завершенного дела, я открыл только что полученную книжку «Нового мира» за 1952 год и, просматривая содержание, заметил очерк Шандора Нодя «Примирение». Открыв журнал, я прочитал точно те размышления венгерского крестьянина, которые накануне по памяти цитировал Сталин. На другое утро я принес журнал к Маленкову. Он рассерженно буркнул: «Пишите представление». «А как же Ацел, -- растерянно сказал я.
-- Ну что Ацел? Он уже представлен и вошел в список. Пускай будут оба.
Вскоре оказалось, что произведение Ацела яростно антисоветское, изображающее наших солдат как извергов и мародеров. Во время венгерских событий с лауреатским значком он убежал на Запад. Что же касается Шандора Нодя, то такого писателя в венгерской литературе вообще не значится.
Как Михаил Зощенко стал "пошляком и подонком"
Сразу же после XX съезда КПСС нам с Рюриковым было поручено подготовить записку и проект постановления об отмене этих решений, как противоречащих ленинским принципам отношения к художественной культуре. Мы подняли все документы и материалы, связанные с обсуждением и подготовкой постановлений 1946--1948 гг. по вопросам художественной литературы. В одной из стенограмм прочли: когда речь зашла о совершенно безобидном рассказе Зощенко «Приключения обезьянки», напечатанном ранее в «Мурзилке», Сталин с возмущением воскликнул: «Это ведь тот самый Зощенко, пошляк и подонок, который в свое время написал злобный и возмутительный фельетон о Кирове, приехавшем в Ленинград с собакой».
И хотя большинство присутствующих прекрасно знали, что злополучный фельетон написал не Зощенко, а Зорич, никто не посмел возразить на сталинскую реплику.
За Зощенко закрепилась кличка «пошляк и подонок».
Четыре картины из Эрмитажа - Эйзенхауэру в подарок
Весной 1959 года я был командирован в США на выставку советской культуры, науки и техники. В день открытия выставки толпа, плотным кольцом окружившая выставку, смела охрану и ворвалась в помещение. При этом пострадал и был оттащен за ноги мой заместитель, академик Губер, который должен был сопровождать по выставке почетных гостей -- Эйзенхауэра и Никсона. Мне вместо Губера пришлось провести гостей по выставке изобразительного искусства. Эйзенхауэр непрестанно восхищался и умилялся, а Никсон шел со скучающим видом и тушил о багеты картин догорающие сигареты. Я, наконец, не выдержал и попросил переводчика сообщить ему, что у нас для этой цели существуют урны. Никсон, удивленно вскинув голову, демонстративно пересек всю площадку и бросил сигарету в урну.
Вечером первый заместитель председателя Совмина Козлов вызвал меня и попросил назвать пять картин, которые особенно понравились Эйзенхауэру.
-- Надо будет снять их с экспозиции, упаковать и отправить ему в подарок.
Я замялся:
-- По-моему, это неудобно, Фрол Романович, ведь среди картин, которые я вам назвал, четыре -- из экспозиций Третьяковской галереи и Эрмитажа.
-- Ну, это дело большой политики и мелочиться здесь не следует, -- оборвал меня Козлов.
Однако на другой день, когда картины были уже сняты и упакованы, Козлов вновь вызвал меня и спросил:
-- Ты думаешь, неудобно и может вызвать скандал дома? А какие картины, по-твоему, следует подарить?
-- Ну, это же не вопрос, Фрол Романович, я сейчас же могу назвать пять картин, которые похвалил президент и которые не представляют особой художественной ценности.
Так и было сделано.
История с выставкой картин имела свое продолжение.
В ответ на похвальные реплики и высокую оценку нашего искусства, высказанные Эйзенхауэром, одна женщина-искусствовед выступила с резкой отповедью президенту, указав ему, что не следует соваться в дела, в которых он ничего не понимает. На другой день Эйзенхауэр ответил ей. Через несколько дней в телевизионном интервью меня спросили: «А вы читали полемику Эйзенхауэра с искусствоведом? У вас такое может быть?» «У нас, --ответил я, -- у президента другие заботы и он не занимается оценкой отдельных произведений искусства».
Это было за три года до посещения Хрущевым выставки в Манеже.
"У вас там в первом акте фигурирует, если я не ошибаюсь некто Пестель"
В 1959 году после XIX съезда КПСС секретарем ЦК КПСС стал Михайлов. Человек малообразованный, он развил на этом посту (который занимал до смерти Сталина) бурную деятельность. Через несколько дней после вступления на секретарство он решил преподать мне наглядный урок руководства художественной культурой. Вместе со мной был приглашен выдающийся советский композитор Ю.А. Шапорин, незадолго до этого написавший оперу «Декабристы». Михайлов предложил Шапорину взять лист бумаги и записать руководящие замечания и пожелания, которые возникли при просмотре оперы у членов правительства. «Итак, товарищ Шапорин, первое, что вам надо сделать, -- это осуществить некоторые перестановки. У вас там в первом акте фигурирует, если я не ошибаюсь, некто Пестель. Так вот, признано целесообразным перевести его во второй акт и соответствующим образом изменить оркестровку». Шапорин молчал.
«Во-вторых, в вашей опере есть сцена, где рабочие на лесах воздвигают Исаакиевский собор. Так вот, эта сцена должна быть центральной и, я бы сказал, ударной. Ее надо сделать подлинно народной. Рабочие должны самым активным образом поддержать дворянских революционеров».
-- Так ведь, Николай Александрович, -- робко возразил Шапорин, -- они были страшно далеки от народа. И отложил карандаш и бумагу.
-- Товарищ Шапорин, что же вы не записываете. У меня есть еще указания, и потом, имейте в виду, что я ведь передаю вам не свое мнение.
-- Но Николай Александрович, я писал оперу почти десять лет.
А когда Шапорин отказался что-либо записывать и, взявшись за сердце, попросил разрешения удалиться, Михайлов огорченно развел руками и, уже обращаясь ко мне, посетовал: «Вот и попробуй с такими людьми осуществлять партийное руководство искусством».
Очень он был расстроен.
Как Хрущев спас "Восемь с половиной"
Когда на Московский международный кинофестиваль был представлен фильм Федерико Феллини «Восемь с половиной», зарубежные члены жюри почти единодушно высказались за то, чтобы дать Феллини главный приз. Старания и усилия членов советской группы, которых неоднократно вызывали для «накачки», не дали никаких результатов. Противопоставить картине было нечего, и она получила первый приз фестиваля. На беду кто-то подсунул Хрущеву тассовский обзор зарубежной прессы, в котором было сказано, что в Москве был удостоен главного приза модернистский фильм Феллини. Что такое модернистский, Никита Сергеевич, конечно, понятия не имел, но раз враги похвалили, так, значит, наверняка антисоветский и контрреволюционный.
Хрущев вызвал председателя Госкино Романова, накричал на него, обвинил его в том, что он «торпедировал» последний идеологический пленум и что его следует вышвырнуть с работы и из партии. «Убирайтесь, -- в заключение сказал он, -- а картину пришлите мне, я сам ее посмотрю, если уж вы в этом ничего не понимаете».
Романова вызвали к Ермашу, тогдашнему куратору кинодела в ЦК, который стал орать на него (хотя до этого поддерживал фильм), предчувствуя скорую и легкую победу и воцарение на пост председателя Госкино.
Между тем «наверху» происходило следующее. Через пять минут после начала картины Никита Сергеевич, положив ноги на кресло, стал издавать подозрительное присвистывание, которое вскоре перешло в настоящий храп. Будить его, разумеется, не решились. Прошло порядочно времени после того, как пленка была прокручена, и Никите деликатно сообщили, что просмотр окончен. Он еще раз всхрапнул, нехотя поднялся и заявил, что раз от такого дерьма советских людей в сон шибает, никакого вреда оно не принесет, и нечего панику поднимать. Так кончилась эта трагикомическая история. Романов отделался легким испугом, Ермаш тогда «проиграл», а картина, оставшаяся в нашей стране, вышла на экраны и была показана с огромным зрительский успехом... почти через двадцать лет.
"Сплошное уродство и издевательство над благородными животными"
Прием 17 декабря 1962 года проходил после пресловутого погрома абстракционистов в Манеже. При входе в зал по правую сторону были развешаны картины -- образцы того, как надо писать, по левую -- как писать не надо. Галерея картин, подлежащих подражанию, открывалась произведениями А. Герасимова, специализировавшегося на помпезном изображении «вождей».А среди картин, которым подражать не следовало, оказались полотна Дейнеки. Стол президиума был завален скульптурными произведениями, зачисленными по ведомству абстракционизма. Особенно много было здесь различных кошечек и собачек работы Эрнста Неизвестного.
Никита Сергеевич снова, как и в Манеже, обрушился на злостных абстракционистов. «Вот, например, эта лошадь и корова, -- говорил он, -- ведь это же сплошное уродство и издевательство над благородными животными». «Но ведь это же собачки, -- возразил из зала Неизвестный. «Ну, все равно, -- после небольшой паузы несколько озадаченно продолжал Хрущев, -- а где вы взяли медь на эту мазню?» И тут же, обратившись к Шелепину, приказал: «Выясните немедля, откуда достают медь на эти абстракционистские опусы?»
Запомнилось завершение полемики с Неизвестным. Евтушенко взял его под защиту и заявил, что если и есть какие-либо просчеты и недостатки у Неизвестного, то это грехи и недостатки молодости, которые впоследствии будут изжиты.
-- Горбатого могила исправит, -- бросил реплику Хрущев.
И тогда Евтушенко, повернувшись к нему, заявил:
-- Никита Сергеевич, мы живем в такое время, когда ошибки исправляют не могилами, а живым, честным и правдивым большевистским словом.
И при гробовом молчании аудитории сошел с трибуны.
Хрущев явно растерялся, не нашелся, что ответить, и объявил перерыв до следующего обсуждения, которое состоялось в Кремле почти через три месяца, 8 марта 1963-го.
"Ну кем я был без советской власти?"
С Корнеем Ивановичем Чуковским мы познакомились летом 1953 года в Сокольнической инфекционной больнице, куда я попал после командировки в Туркмению. Врач предложил мне поселиться вместе с Чуковским, который изнывал в одиночестве. Так начались наши добрые отношения с Корнеем Ивановичем. Многие годы он жил под постоянным прессом тупого и сурового сталинского, а потом сталинистского режима. Припоминаю в связи с этим один эпизод.
Осенью 1960 года мне позвонил взволнованный Корней Иванович: «Надо повидаться. Дело очень срочное». Минут через 30 он появился, запыхавшийся и взволнованный. «Игорь Сергеевич, вы же знаете, как я люблю партию и наше родное правительство. Ну кем бы я был без советской власти? Каким-нибудь захудалым журналистом-поденщиком. А теперь я имею любимую работу, живу интересно и содержательно, пользуюсь всеобщим уважением и вот даже премию Ленинскую получил».
Я с некоторым удивлением ожидал дальнейшего. «И вот, -- продолжал Корней Иванович, -- какое нелепое, глупое недоразумение. Позавчера был день рождения жены Пастернака. Все мы, его старые друзья, непременно в этот день приходим к нему, особенно в связи с историей Ивинской. Я тоже, разумеется, пошел, встретил на пороге Бориса, нежно обнял и расцеловал его. А в это время что-то застрекотало, и вспыхнули расставленные по углам «юпитеры». Я не придал этому особого значения, но вдруг совершенно неожиданно сегодня во французских газетах появляются фотографии меня, целующего Пастернака, с провокационной подписью: «Старейший советский писатель К. Чуковский первым пришел поздравить Пастернака с присуждением ему Нобелевской премии». Представляете, какой ужас. И это после вчерашнего побоища во Дворце спорта, где все начальство во главе с главным полицейским разносило Пастернака в пух и прах, сравнивало его со свиньей, которая пьет пойло из чужого корыта. Что же мне теперь делать? Куда писать, с кем объясняться?»
Я несколько растерялся.
-- Ну, Корней Иванович, напишите куда следует и расскажите все как было. Что вы пошли поздравить жену Пастернака, по дороге встретили и облобызали Пастернака, а теперь французские газеты сообщают, что вы пришли поздравлять Пастернака с Нобелевской премией, чего у вас и в мыслях но было.
-- А не будет это очень глупо? -- спросил Корней Иванович.
-- По-моему будет, -- ответил я. -- Не пишите вы об этом и не рассказывайте никому. Не бойтесь вы ради бога, не посадят вас. Не те теперь времена. Ведь был же двадцатый съезд, да и Никита Сергеевич совсем другой человек...
Как Твардовский читал Хрущеву "Теркина на том свете"
В Пицунду на встречу с Хрущевым прилетела делегация Всемирного конгресса писателей. После торжественного обеда на даче Микояна ко мне подошел помощник Хрущева Лебедев: «Никита Сергеевич передал, чтобы во время чтения поэмы Твардовского никого из буржуев не было». Ситуация создалась пикантная. Около половины гостей было из капиталистических стран, рядом с Хрущевым сидели Сартр и Симона де Бовуар, напротив -- Лундквист, только что выступивший с тостом. Что было делать?
«Знаешь, Володя, -- сказал я Лебедеву, -- мне сообщили еще в Ленинграде, что Лундквист с некоторым сомнением принял приглашение. У него кто-то болен в семье. Передай ему, что есть возможность срочно уехать. А мальчикам передай, чтобы немедленно подготовили машину и поактивней подвигали стульями, чтобы создать видимость массового отъезда».
Так и было сделано. Лундквист пожал плечами и явно удивился тому, что ему не дают допить кофе. Но, видимо, решил, что в этой стране всего можно ожидать и в окружении «мальчиков» покорно пошел к выходу.
После окончания обеда началось чтение поэмы «Теркин на том свете». Твардовский попросил меня сесть напротив Хрущева и запомнить его реакцию во время всего чтения. Реакция была обычной. Никита задремал. Оживился он, когда в поэме зашла речь о том, что «кулеш-то съеден был не весь», а «Теркин с теткой делом занят был другим». Никита повернулся к Симоне и, бурно жестикулируя, стал с помощью переводчика объяснять ей смысл этого «темного» места поэмы. А потом снова мирно задремал и очнулся, когда чтение поэмы окончилось и воцарилось напряженное молчание. «Поздравляю», -- произнес Хрущев и через стол протянул Твардовскому руку. Тут же подскочил Аджубей и сообщил, что поэма полностью будет напечатана в ближайшем номере «Известий»,
Сияющий Твардовский подошел ко мне и радостно произнес: «Виктория! Виктория! Вопреки врагам и недругам».
Гости стали расходиться. Но я заметил, что, расталкивая толпу, к Хрущеву пробивается Корнейчук... С Лебедевым мы задержались для составления коммюнике для печати, в котором, между прочим, было сказано, что в заключение дружеской встречи была прочитана сатирическая поэма Твардовского, которая была встречена с большим интересом и вниманием. Не успели мы завершить это коммюнике, как возвратился Хрущев. Обращаясь ко мне, он спросил: «Так что, поэма-то антисоветская?»
-- Да нет, Никита Сергеевич, что это вы? Поэма вполне советская, она содержит критику бюрократической извращенности в идеологической работе, о чем шла речь и на последнем Пленуме ЦК. Только, конечно, это сатирическое произведение, и оно содержит гротески и заострения.
-- Вот вы эти самые «гротески» и снимите, -- буркнул Никита Сергеевич и вышел из комнаты.
Что было делать? Снял я трубку ВЧ и позвонил в «Известия», чтобы поэму не ставили в номер впредь до моих указаний. Через полчаса прибежал взволнованный Твардовский.
-- Что случилось?
-- Никита Сергеевич сказал, что в поэме есть неоправданные и излишние резкости и заострения.
-- Какие заострения и резкости? Опять на благодушество потянуло. Но ведь я же писал сатирическую поэму!
-- Ну, зачем так, Александр Трифонович? Вот, например, ты пишешь о цензуре, что там сидят на «повышенном окладе» одни дураки и жулики. А ведь в цензуре есть и честные, порядочные люди. Никита Сергеевич сказал, что этот абзац лучше бы снять.
-- Хорошо, -- помолчав, сказал Твардовский, -- снимем этот абзац и поместим его в твою «черную папку». Хотя мне, признаться, очень жаль. Ну да лишь бы спасти поэму.
На другое утро у меня раздался телефонный звонок:
-- Знаешь, -- с яростью говорил Твардовский, -- пока мы с тобой в Пицунде чаи распивали, самодур и идиот Пашка Романов снял из журнала большой очерк Герасимова на том основании, что он якобы очерняет действительность, рассказывая, как из районных центров в деревню колбасу привозят. Но ведь это же гнусная лакировка, никакой колбасы в районных центрах давно нет. Вот пока этот идиот и самодур будет командовать, я из поэмы ничего не сниму.
-- Как не снимешь, но ведь уже все доложено Хрущеву.
-- Вот и доложи ему то, что я тебе сейчас сказал.
Я позвонил Лебедеву. «По-моему, не стоит поднимать скандал, -- сказал он, -- Корнейчук передокладывать и настаивать не будет, Аджубей тем более. А у Никиты Сергеевича перечитывать поэму руки не дойдут. Пусть все остается, как было.
"Мы пьем, чтобы не было стыдно. За вас, идиотов, стыдно"
На другой день после самоубийства Фадеева и публикации некролога, где говорилось о том, что он пал жертвой все усиливавшегося алкоголизма, мне позвонил Михаил Александрович Шолохов, у которого я провел в Вешках около месяца в 1955 году: "Приходи, мне плохо".
Я тут же поехал на Сивцев Вражек. Шолохов бегал по квартире, возбужденный и разъяренный, пытался дозвониться куда-то по телефону. На столе я заметил скомканную газету с пресловутым некрологом.
Дозвонившись наконец он закричал срывающимся голосом: "Как вы смели назвать Фадеева алкоголиком? Неужели все вы и ты, старый дурак, не понимаете, отчего мы пьем, не понимаете, что мы пьем, чтобы не было стыдно. За вас, идиотов, стыдно. Ах, он написал письмо, обидел вас, видите ли. И вы поспешили расправиться с ним, плюнув ему вдогонку. Болван ты безмозглый". И Шолохов бросил трубку, прервав, как я понял, разговор с тогдашним президентом страны Ворошиловым.
После этого он, крайне возбужденный, долго ходил по комнате, рассказывая мне о своих отношениях с Фадеевым.
-- Ты думаешь, я не понимаю, что на XX съезде топтал его лежачего. Но ведь сколько крови испортил он мне до этого, подзуживая Горького, а через него Сталина против "Тихого Дона". Впрочем, ты сам это хорошо знаешь.
Я действительно знал об этом отчасти из рассказов самого Шолохова, когда в 1955 году работал вместе с ним над новой редакцией "Тихого Дона"...
Игорь Сергеевич Черноуцан (1918--1990 гг.), литератор, партийный работник. Родился и окончил школу в Ярославле, в 1936 году стал студентом первого набора Института философии, литературы и искусства (ИФЛИ) в Москве. Окончил ИФЛИ 21 июня 1941 года. Был призван в армию. Пройдя обучение на ускоренных курсах радиосвязи, стал начальником радиостанции Сталинградского фронта. Был несколько раз контужен. Войну закончил в Кенигсберге. Награжден боевыми орденами и медалями. После войны окончил Академию общественных наук, защитил диссертацию и был направлен на работу в аппарат ЦК КПСС, где проработал 30 лет, с 1951 по 1981 год, инструктором, заведующим сектором, консультантом, заместителем заведующего отделом.
 |

