 |
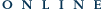 |
|
N°3, 14 января 2005 |
 |
ИД "Время" |
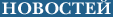 |
 |
 |
 |
На обломках самовластья
Режиссерский театр расстается с великим прошлым
Формальный повод для этих заметок прост и радостен. Незадолго до Нового года в продажу поступил третий выпуск «Режиссерского театра» (издательство «Московский Художественный театр»); два предыдущих выпуска были изданы соответственно в 1999 и 2001 годах. Эти книги -- сборники содержательных, а иногда и захватывающих бесед с режиссерами, актерами, художниками, композиторами -- с людьми, которых можно назвать элитой современного драматического театра. Прежде всего русского, но не только.
Не владея умениями интервьюера, я могу, однако, по достоинству оценить качество работы: она умна и искусна. Душевный настрой собеседника, напряжение и характер речи, внутреннее отношение к теме -- все это сохраняется, получая вдобавок отменную литературную огранку. Я знаю, с каким трудом устная речь переводится в письменную и как важно переводчику чувствовать границу, за которой теряется обаяние живого разговора. Здесь важен не только хороший литературный вкус, еще важнее неподдельный интерес к предварительно изученному (как же без этого) собеседнику, важна радостная и сосредоточенная готовность к пониманию. Подделать ее очень трудно (тем более в разговоре с чувствительным театральным народом), а без нее никак не обойтись.
В первой беседе первого выпуска, озаглавленной «Приемы борьбы», художник Сергей Бархин делится своим опытом: «Вы слышали расхожий девиз: «жить каждый день как последний?» Это полная чушь... А вот мое правило: общайся с человеком так, как будто это его последний день». Сказано замечательно; еще замечательней то, что никто ничего не подгадывал, ставя эту фразу в начало книги. В «Режиссерском театре» имена героев-собеседников идут в алфавитном порядке: за Бархиным, естественно, следуют Давид Боровский, Питер Брук, Роберт Брустин (создатель Американского репертуарного театра), Анатолий Васильев, Кама Гинкас, Ежи Гротовский, Лев Додин и т.д. И все-таки зачин не кажется случайным: все беседы (а их в трех выпусках более сотни) словно бы имеют в основе «принцип Бархина».
Авторы проекта, Анатолий Смелянский и Ольга Егошина, не мудрили с подзаголовками: в первом сборнике на титульном листе стояло «Разговоры под занавес века», во втором -- «Разговоры на рубеже веков», в третьем стоит само собой разумеющееся «В начале века». Подзаголовки бессодержательны, если думать, что речь попросту идет о хронологии. Однако авторы проекта имели в виду не календарный, а театральный ХХ век. Он начался, когда (цитирую вступительную статью к первому выпуску) «на место господства актера и драматурга -- двух основных сил прежнего театра -- пришло господство новой художественной воли, одного художника -- режиссера, который стал демиургом всего того, что происходит на сцене и в зале». Вполне вероятно, что век режиссерского самовластья заканчивается на наших глазах; хотя не надо, конечно, думать, что он закончится в какой-нибудь определенный «день Х».
Режиссерский театр входил в художественную жизнь долгими и сложными путями; уходить из жизни он будет не менее долго и мучительно; многие (и я в их числе) останутся его пожизненными апологетами. Однако самый упертый из апологетов не может не понимать: власть режиссера, господство личной воли в построении театральной игры впредь не будут столь полными, как были прежде. Конечно, это связано с общим кризисом индивидуализма в современной культуре, однако мы в философские дебри забираться не будем, остановимся на нашей театральной опушке. Какие цветы на ней растут, какие грибы-ягоды! Мы, однако, соберем только ядовитые. Для первого раза.
Сергей Юрский, выступая на «Славянском базаре» 22 июня 1997 года (это выступление замыкает первый «Режиссерский театр» и называется «Властители дум») говорил с блистательным задором: «Мне кажется, что мы с вами присутствуем при завершении века режиссерского своеволия в театре... В нынешнем театре он, режиссер, -- единственный художник, актеры -- краски, которые он более, а часто менее умело выдавливает на холст сценической площадки. Актеры постепенно привыкают к такому положению и начинают даже получать удовольствие от своего иждивенчества». Разумеется, категоричность была преднамеренной и слегка наигранной; вспомнить по-настоящему крупного отечественного режиссера, для которого актеры были бы только «красками», очень трудно, а то и вовсе невозможно. Важно другое: как ни старайся режиссер ХХ века «сохранить верность автору» или «умереть в актере», как ни занимайся он воспитанием единомышленников, строительством театра-дома и т.д. -- это остается его личным выбором и проявлением его властной воли. Режиссеру некуда деваться от полномочий и обязанностей театрального самодержца. У него нет способа усмирить свою индивидуальную инициативу.
Художественные идеи дороже, чем их носители: так можно перевести знаменитую максиму Станиславского насчет любви к «искусству в себе». Идея «театра-дома» дороже, чем судьба любого из домочадцев. Так и должно быть в хороших домах, населенных талантливыми людьми: в состав правильно воспитанного таланта непременно входит готовность поступаться личным. Было бы из-за чего поступаться.
«Вы знаете, какой я был апологет театра-дома, театра-семьи -- модели, созданной Станиславским, Немировичем, до них Щепкиным. Но! Советская власть довела театр до окостенения, он стал неживым, и наш в том числе... Единственный выход из этого -- развал советского театра и переход на контрактную систему типа антрепризы. Потом при всех прелестях и мерзостях антрепризы возникнет новый Станиславский, который создаст новый МХТ». Эти слова взяты из беседы Олега Басилашвили «Мы были детьми-иждивенцами» (выпуск 3), но принадлежат они не актеру. Басилашвили, на память которого мы вполне можем положиться, повторяет то, что ему в середине 80-х говорил Георгий Александрович Товстоногов. Великий режиссер всегда понимал гораздо больше, чем произносил публично.
Вряд ли, однако, он мог предвидеть, что через двадцать лет законнейшим свойством жизни в искусстве станет пламенная любовь к себе.
Главная проблема сегодняшнего театра -- не отсутствие художественных целей («новых форм, новых идей, внятных манифестов», как пишет Ольга Егошина во вступлении к третьему выпуску), а в нежелании устремляться к какой бы то ни было цели. «Носитель» твердо осознал, что он сам важнее, чем любая «идея». И новая театральная публика, о свойствах которой мы еще поговорим, ему поддакнула: да на что нам идеи, мы на тебя, мордашка этакий, посмотреть пришли, что ты нам исполнишь. В театре такого рода режиссеру естественным образом предлагается статус обслуживающего персонала. И статус, и соответствующую оплату (с надбавкой за вредность) режиссеры нового поколения в большинстве своем приняли как нечто должное. Это вряд ли будет способствовать развитию режиссерского искусства как такового.
«Мне кажется, мы живем не в эпоху созидания культуры, а в эпоху ее всеобщего потребления, из-за чего создается впечатление, что она еще существует. Потребительский, вторичный характер современной музыкальной культуры проявляется, в частности, в изменении соотношения «композитор--исполнитель», -- говорил в своей беседе композитор Владимир Мартынов (выпуск 2). В начале 90-х, работая над «Плачем Иеремии» и совсем не думая о его театральном его исполнении, параллельно Мартынов писал книгу «Конец времени композиторов». Она слишком сложна для меня, но в коллективном труде на тему «Конец времени режиссеров» я, кажется, готов поучаствовать.
Александр СОКОЛЯНСКИЙ

