 |
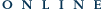 |
|
N°192, 20 октября 2004 |
 |
ИД "Время" |
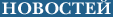 |
 |
 |
 |
Немцы взяли водокачку
Премьера оперы Дебюсси «Пеллеас и Мелисанда» в «Дойче опер»
После шумных скандалов, случившихся в западноберлинской «Дойче опер» этим летом, когда сменился весь ее менеджмент, театр попал в сложную ситуацию. Теперь ему приходится не только выдерживать острую конкурентную борьбу со вторым берлинским оперным гигантом «Штаатсопер» во главе с Даниелем Баренбоймом, но и самому все начинать с нуля. Тем не менее театр настойчиво придерживается своих известных репертуарных взглядов, уделяя внимание XVIII веку, игнорируя Верди, замечая веризм и всматриваясь в ХХ век. В ближайших планах «Дойче опер» не только «Манон» Пуччини и «Паяцы» Леонкавалло, но и «Записки из мертвого дома» Леоша Яначека. Поэтому когда-то редкий, а в последнее десятилетие ставший одним из любимых репертуарных названий в Германии и Франции шедевр Дебюсси «Пеллеас и Мелисанда» вполне гармонично вписывается в эту стратегию. Между тем интерес европейской публики к постановке вызван не только полюбившейся музыкой, но и участием в проекте одного из самых востребованных в мире дирижеров Марка Албрехта, который составил себе имя на исполнении опер ХХ века.
Благодаря музыке Дебюсси и либретто Метерлинка музыкальная драма «Пеллеас и Мелисанда» является одним из самых принципиальных манифестов символизма, с чем невозможно не считаться. Но режиссер и сценограф спектакля Марко Артуро Марелли понимает символизм как не вполне определенное художественное направление, не имеющее ни стилистических, ни временных границ и не вызывающее исторической рефлексии. А потому новый спектакль «Дойче опер» наполнен таинственной многозначительностью и замысловатыми усилиями намекнуть зрителю, что все непросто, что во всем скрывается подспудный смысл. И наполовину затопленная сцена, и выступающие из воды блочные строения, напоминающие советский долгострой, хранят некую тайну, а заодно вызывают требуемое сюжетом уныние. Стоит только занавесу открыться, они немедленно рождают почти физическое ощущение беспросветности.
Однако успех этого спектакля загадочным образом проистекает как раз из режиссерской неудачи, из общей расплывчатости и недосказанности, которая оказывается едва ли не главной темой постановки. Ведь и в опере непонятно, кто такая Мелисанда, откуда она пришла, кого она на самом деле любит, да и любит ли вообще. В постановке не только она, но и остальные герои прорисованы лишь вполовину, их образы состоят из условно-современного внешнего вида (художник по костюмам Дагмара Ниефинд), суетливых бытовых хлопот, благородных порывов, некрасивых поступков и несуетного, неподдельно красивого пения.
Отношения между героями то возвышенно-оперны, отрешенно-медитативны, то донельзя откровенны и кажутся предельно обытовленными. Вроде бы они -- наши современники, в чем убеждает их экипировка (общее место почти всех нынешних постановок). С другой стороны, скудость их бытового обихода вызывает ассоциации со Скандинавией черно-белого Бергмана из его самых безнадежных фильмов.
Белое платье Мелисанды выделяет ее из серого окружения, но не превращает в беззащитную Лорелею, смесь волшебницы и ребенка. Мелисанда этого спектакля скорее привлекательна, чем загадочна, скорее эротична, чем женственна. А Пеллеас с его современной мальчишеской стрижкой и вовсе напоминает не романтического героя, а персонаж из молодежного сериала и двигается по сцене так, будто его сверхзадача -- изображение угловатого подростка.
Вода, до половины заполняющая сцену, -- театральная диковинка, главная придумка режиссера. Не каждый день такое увидишь в опере, даже и западноевропейской. Ради этой сценографии и был, очевидно, поставлен весь спектакль. На нее и падает главная метафорическая нагрузка. Являясь символом разобщенности между людьми, эта вода временами действительно создает впечатляющую атмосферу, играет роль мыслящего океана, меняющего цвет в зависимости от характера сценических событий. В сцене последнего свидания Пеллеаса и Мелисанды в полутьме мимо героев подобно Харону проплывает на плоту охотник, возвращающийся в замок с трофеями. Одна эта мизансцена содержит в себе столько театрального смысла и красоты, что только ради нее одной можно смотреть спектакль.
Но в других сценах сырость становится скорее препятствием и испытанием. Лодка, которая превращается в постель умирающей Мелисанды, не слишком удачная и, главное, необъяснимая находка. Финал оперы, когда неизвестные женщины в ярких платьях увозят умершую героиню за горизонт, несмотря на эффектность, вызывает ощущение внутреннего дискомфорта. Ясно, что яркие цвета в этой системе координат -- принадлежность лучшего мира. Непонятно только, почему собственно...
Эстетика спектакля не эклектика и не постмодернизм. На самом деле это попытка разыграть символистскую драму средствами бытового театра. Ибо большие метафоры вроде мыслящего океана и даже туман таинственности не способны скрыть того обстоятельства, что в целом метафорическое мышление режиссеру не свойственно. Поступки героев он инсценирует буквально, часто намеренно снижая пафос. Муж Мелисанды (прекрасный баритон Лоран Наори) -- просто стареющий ревнивец, бьющий свою жену как пьяный мужик. Старость Аркела (Рейнхард Хаген) выливается в медицинскую историю с анамнезом, капельницами, инвалидной коляской и прочими сопутствующими болезни атрибутами. Женевьева (Клэр Повелл), бодрая старушка в клетчатом платке, прыгает на одной ножке и радуется как девочка выздоровлению мужа. Ожидающая ребенка Мелисанда во втором действии предстает и вовсе на сносях. В целом же, за исключением спонтанного инцидента с мордобоем, в благородном семействе отношения вполне теплые. И вроде бы не дают повода для той экзистенциальной тоски, которая пронизывает весь спектакль. Так уж он поставлен -- с любовью к мелочам и недоверием к главному, в стремлении изо всех сил быть современным и презрении к романтическим ситуациям.
А потому здесь нет ни грота, ни звезд, ни всходящей луны, ни ее призрачного сияния. Нет окна, нет золотых волос Мелисанды, нет целомудренных поцелуев, а есть откровенные тискания. Самая красивая сцена оперы -- взаимное полупризнание в любви главных героев -- поставлена с цирковой веселостью. Мелисанда лежит на перевернутой лодке в соблазнительной позе змеи, вдруг из-под лодки, подобно ярмарочному Петрушке, выскакивает Пеллеас, раскидывая в стороны руки...
Но в тех эпизодах, где внутренний смысл неясен, а история топчется на месте, на выручку приходит музыка, поднимающая все происходящее на сцене на должный уровень. Музыкальная жизнь постановки -- это совсем особая тема, развитию которой все происходящее на сцене не помогает, но и не препятствует. Именитый специалист по музыке ХХ века дирижер Марк Албрехт становится едва ли не главным героем «Пеллеаса и Мелисанды», так бурно ему аплодирует зал. Под его руководством спектакль теряет свою бескрасочную тяжеловесность, но не приобретает и традиционной оперной эффектности. Рациональное начало музыки Дебюсси в этой интерпретации, пожалуй, преобладает над ее льющейся непрерывностью. В результате в опере недостаточно чувственности, но много тонких смысловых оттенков.
Так же, как в пении исполнителей двух главных партий. Пеллеас (Ричард Крофт) и Мелисанда (Вероника Генс) -- это певцы на барочный репертуар, а значит, солисты, натренированные на раскрытие филигранных музыкальных нюансов. Для «Пеллеаса и Мелисанды» лучших исполнителей трудно себе представить. Они создавали вокально-переливчатые образы, чувствовали свой голос продолжением звучания оркестра, а главное, стилистически выделяясь среди других певцов этой оперы, все-таки казались романтическими созданиями не от мира сего, существами иной музыкальной природы. Чего, возможно, и не предполагал наполненный бытовыми подробностями и расплывчатой многозначительностью режиссерский замысел.
Ирина КОТКИНА, Берлин

